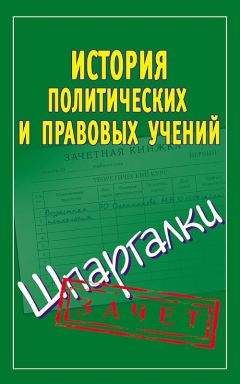Роберт Конквест - Большой террор. Книга II.
Тюремные рационы выдавались регулярно и были, очевидно, составлены с таким расчетом, чтобы человек, который практически не двигался, мог остаться в живых.
Из-за недостатка света и воздуха лица заключенных приобретали особый голубовато-серый оттенок.[64] Многие страдали дизентерией, цингой, чесоткой, воспалением легких и сердечными болезнями. Воспаление десен было у всех. «Цынгой заболевали, особенно проведя в тюрьме год, два, три (были и такие)».[65]
Администрация тюрьмы несла прямую ответственность за жизнь заключенного. Это приводило к парадоксальным результатам: в одной и той же камере можно было найти заключенных, тяжело страдавших после пыток, и тех, кому в то же самое время регулярно выдавали лекарства от простуды, кашля и головной боли.[66] Администрация делала все возможное, чтобы воспрепятствовать самоубийству.
Пока тянулся допрос, доктора редко вмешивались в дело. Но потом они начинали лечить раны и переломы, полученные при допросах, хотя официальный диагноз был другим.[67] В провинциальных тюрьмах все выглядело по-другому: там прямо пытались установить — сколько заключенный может выдержать. В медицинских справках и, очевидно, в официальных отчетах откровенно говорилось об избиениях. Согласно В. Кравченко, так продолжалось и в начале 1938 года.[68]
Взаимоотношения в камерах, если не считать стукачей, были, как правило, хорошими и доброжелательными, особенно в Москве. В воспоминаниях заключенных есть очень много рассказов о доброте и самопожертвовании. Венгерский коммунист Лендьел рассказывает, как одному заключенному его камеры, которого жестоко пытали, была на целый день предоставлена кровать. В этой камере, предназначенной для 25 человек, находилось 275. Каждый поделился с ним сахаром из своего рациона.[69]
В тюрьмах читались лекции на самые разнообразные темы, рассказывались всевозможные истории. В каждой камере, вспоминает бывший заключенный Герлинг, был по крайней мере один летописец, исследователь тюремной жизни. Он целый день занимался тем, что собирал истории, обрывки разговоров, подслушанных в коридоре, сообщения из газет, найденных в уборной, приказы администрации. Он следил за движением транспорта во дворе тюрьмы и даже прислушивался к приближающимся и удаляющимся шагам людей, проходивших мимо ворот.[70]
Все без исключения люди, побывавшие в тюрьме, рассказывают, что знали ответственных работников, которые и в заключении сохраняли верность партии. Одни были убеждены, что Сталин и Политбюро ничего не знали о происходящем, другие считали себя не в праве решать подобные дела. Долг повелевал им подчиняться всем приказам партии, включая дачу показаний на суде.
Встречались и другие типы. В Бутырках в одну камеру были помещены сыновья пяти ответственных партийных работников. Четверо из них держались с наглостью, типичной для новой привилегированной молодежи. Они тут же отреклись от своих родителей и даже похвалялись этим. Порядочным парнем был только один — сын расстрелянного «лихача»[71] генерала Горбачева.[72]
Заключенным разрешалось курить, но все игры были запрещены. Некоторые тайно играли в шахматы, вылепив фигуры из хлеба. В женских камерах. Бутырок гадали на спичках. Обнаружив у кого-нибудь спички, надзирательница пересчитывала их. Всех женщин, у кого находили 41 спичку (количество, необходимое для гадания), наказывали.[73]
Сообщают, что только в двух московских тюрьмах — Лубянке и Бутырках— можно было пользоваться книгами (впоследствии Берия разрешил игры и чтение). Библиотека в Бутырках была хорошо укомплектована по всем разделам: классика, переводы, история, научные издания. Это объясняется тем, что до революции в Бутырки помещали политических заключенных, а крупные издательства бесплатно отсылали в тюрьмы один экземпляр каждой изданной книги.[74] Библиотека на Лубянке состояла в основном из книг, конфискованных у заключенных.
Ежов установил более строгие правила. Он приказал завесить все окна ставнями, которые до сих пор называются «ежовскими намордниками», так что оставалась видна только узкая полоска неба. (До этого ставни использовались лишь на Лубянке и в ленинградской тюрьме на Шпалерной).[75] После суда над Бухариным были введены новые карательные меры. Ставни открывались только один раз в день на 10 минут. От сырости «хлеб покрывается плесенью еще до обеда. Стены насквозь прозеленели. Белье всегда влажное. Все суставы болят, точно их грызет кто-то».[76] За самый малейший проступок (например, если у кого-то находили иглу) заключенного отправляли в карцер, где он получал 200 гр хлеба и кружку кипятка на день, не имел права носить верхнее платье, и три соединенные деревянные доски вместо кровати опускались только ночью.[77] В Ярославле в 1937 году карцеры делились на три категории. В карцере мягкого режима было светло, и заключенный был одет в обычную форму. Следующей ступенью была сырая грязная дыра в стене, где было холодно и абсолютно темно. Заключенный сидел в нижнем белье, получал один раз в день хлеб и воду. Гинзбург просидела там пять дней за то, что кто-то написал ее имя в комнате для умывания. Из карцера первой категории выходили «на скорый конец».[78]
В тюремных дворах были ликвидированы все деревья и цветочные клумбы. Заболоцкий пишет в стихотворении «Ивановы», что был лишен возможности видеть даже деревья — их заперли на замок. Одновременно были уволены все наиболее либеральные надзиратели — оставили только тех, кого заключенные не любили, предварительно отправив их на курсы «повышения квалификации».[79]
Во время допросов, когда расследовалось какое-нибудь важное дело, некоторых заключенных держали в так называемых «внутренних тюрьмах». Но кое-кто отбывал там и срок заключения. В обычных камерах люди жили и спали вповалку, на голых досках, в грязи и духоте, но все-таки здесь был коллектив: можно было поговорить или даже послушать лекцию специалиста на литературную или научную тему. Внутреннюю же тюрьму окрестили «могилой».[80] Камеры были чище и просторнее, каждый имел свою койку и даже постельное белье. Раз в месяц все белье, носильное и постельное, отдавалось в стирку. Но здесь было запрещено шуметь и даже громко разговаривать. Глазок в двери открывался каждые пять минут. С 11 вечера до 6 утра заключенный должен был находиться в постели, днем — сидеть, не облокачиваясь. Делать было абсолютно нечего. Бывший заключенный Вайсберг, сидевший в таком изоляторе на Украине, а потом в Москве, узнал о начале мировой войны только в конце октября 1939 года. Если в общих камерах находились тысячи и десятки тысяч людей, то во внутренних тюрьмах их бывало всего несколько сот.
В изоляторах перед сном нужно было раздеваться, а во время сна держать руки поверх одеяла. Говорят, эта мера была вызвана тем, что один заключенный умудрился сплести под одеялом веревку и повесился на ней. Во всяком случае, это была единственная возможность изготовить какой-то незаконный предмет.[81] Если надзиратель замечал, что во время сна заключенный спрятал руки под одеяло, он тут же входил в камеру и будил его.
Во внутренних тюрьмах было практически невозможно перестукиваться. На стук редко отвечали, опасаясь провокаторов.[82] В других местах это было распространено. Нередко при этом пользовались так называемой «азбукой декабристов».[83]
В одиночном заключении на первый план выдвигались психологические проблемы. Вот какие советы дает бывший артист Большого театра Орловский, отсидевший в изоляторе 5 лет:
«Во-первых, вы должны полностью отрешиться от действительности — перестаньте думать о себе, как о заключенном. Вообразите себя туристом, который на время попадает в непривычную обстановку. Не признавайтесь самому себе в том, что условия здесь плохие, потому что они могут быть еще хуже, и вы должны быть к этому готовы. Старайтесь не вникать в повседневную жизнь изолятора — не слышать его звуков, особенно ночью, не чувствовать его запахов. Старайтесь забыть о существовании часовых, не смотрите на них, не обращайте внимания на выражение их лиц. Перестаньте мечтать о том, что вскоре, возможно, вам удастся покинуть изолятор. Не пытайтесь вновь обрести свободу такими методами, как голодовка или признание своей вины, или мольбой о жалости. Перестаньте тосковать о друзьях, которых вы оставили на воле».[84]
Тюрьмы особой категории состояли из пяти-шести «политических изоляторов» — например в Суздале, Верхнеуральске, в Ярославле и Александровске «изоляторы» появились в самые первые годы советской власти. Тогда считалось, что это гуманный метод устранения из общественной жизни членов оппозиционных политических фракций, «левых уклонистов» и т. д. Еще в начале 30-х годов в этих тюрьмах с заключенными обращались мягче, но во время массовых репрессий они перестали быть исключениями. В пище, которую давали в 1937 году в ярославском изоляторе, вообще не было витаминов. «Утром хлеб, кипяток и два кусочка пиленого сахара. В обед — баланда и сухая, без всяких жиров каша. На ужин — похлебка из какой-то рыбешки, тошнотворно пахнувшая рыбьим жиром».[85] И все же эти тюрьмы сохранили свои отличительные черты, В них содержалось не более 400–500 заключенных. В Верхнеуральске были камеры, в которых сидело всего 10–25, а то и 3–8 человек, плюс несколько «одиночек». Обычно в этих изоляторах отбывали срок более важные политические заключенные, не подлежащие немедленной ликвидации — в том смысле, что они были нужны для новых процессов.