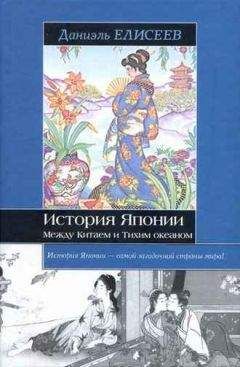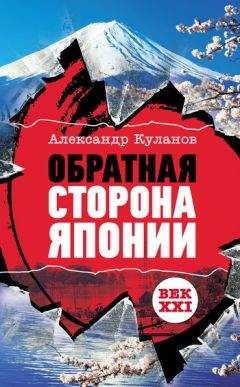Шломо Занд - Кто и как изобрел Страну Израиля
Лишь позднее я осознал, сколь существенным жизненным рубежом оказалось для меня «иерихонское крещение». Я не сумел предотвратить пытки и убийство из-за сильнейшего страха, заставившего меня начисто утратить присутствие духа. Не знаю, сколь эффективным стало бы мое вмешательство, однако то обстоятельство, что я даже не попытался что-либо предпринять, глубоко меня угнетало; я страдал из-за этого в течение многих лет. Вероятно, воспоминание об убийстве живет во мне по сей день — раз я пишу о нем. Эта история заставила меня понять, что чрезмерная власть может породить не только растлевающее зло, что было хорошо известно еще лорду Актону[26], но и недопустимое ощущение господства над другими людьми, перерождающееся, в конечном счете, в господство над территорией. Я убежден в том, что мои предки, жившие в Восточной Европе в черте оседлости, не смогли бы представить себе, что будут творить их потомки в Святой земле.
Свой следующий виток резервной службы я снова провел в Иорданской долине, как раз тогда, когда там начали — с энтузиазмом — строить первые поселения Нахала[27]. На второй день службы, ранним туманным утром, с самым восходом солнца, я принял участие в смотре, устроенном генералом Рехавамом Зеэви, известным также под прозвищем Ганди. Зеэви был назначен незадолго до этого начальником Центрального военного округа; к этому моменту он еще не успел получить в подарок от своего друга Моше Даяна живую львицу[28], ставшую позднее символом военного израильского присутствия на Западном берегу. Представший перед нами генерал, уроженец Палестины[29], блистал выправкой, которая не посрамила бы генерала Паттона[30]; по ходу дела он произнес короткую речь. Я не могу через столько лет вспомнить в точности, что он сказал, отчасти оттого, что в это время почти дремал. Однако никогда не забуду момент, когда Зеэви махнул рукой в сторону Иордании, горы которой вздымались к небесам за нашей спиной, и с энтузиазмом призвал нас никогда не забывать: эти горы — тоже часть Эрец Исраэль, Земли Израиля; там, в библейских Гиладе и Башане, жили наши далекие предки.
Некоторые из солдат согласно кивали, другие хихикали; подавляющее большинство думали только о том, как бы побыстрее вернуться в палатки, к прерванному сну. Присяжный шутник сострил, что наш генерал, несомненно, прямой потомок древних евреев, живших к востоку от Иордана три тысячи лет назад. Он предложил почтить нашего обожаемого командира и немедленно выступить в поход за освобождение заречья от оккупирующих его примитивных гоев. Мое чувство юмора было куда слабее. Короткое выступление генерала значительно ускорило формирование скептического отношения к комплексу коллективной памяти, привитому мне школой. Я понимал уже тогда, что в рамках своей библейской, несомненно, безумной логики Зеэви мыслит безошибочно. Герой Пальмаха[31] в прошлом и министр израильского правительства в будущем, он всю свою жизнь последовательно и страстно стремился к расширению границ родины — территориальная страсть горела в его сердце и направляла его действия. Его моральная слепота в отношении тех, кто живет в «наследственной земле предков», и полное безразличие к этим людям оказались заразными и скоро стали отличительной особенностью очень многих израильтян.
Следует признать, что я был сильнейшим образом привязан к своей «малой родине» — месту, где я вырос, сформировался на фоне городских пейзажей, где я пережил первую любовь. Даже если я и не стал настоящим сионистом, меня научили смотреть на это место как на убежище для преследуемых еврейских беженцев, которым некуда больше деваться. То, что происходило здесь до 1948 года, рисовалось мне в духе притчи, изобретенной историком Айзеком Дойчером; героем притчи был человек, выпрыгнувший в отчаянии из окна горящего дома, упавший на голову прохожему и серьезно его ранивший[32]. Разумеется, в то время я не мог даже представить себе многочисленные перемены, которые вот-вот произойдут на моей «малой родине» после военной победы и связанных с ней территориальных приобретений, — перемены, никак не связанные с бедами и преследованием евреев, перемены, которые невозможно оправдать ссылками на них. Долгосрочные последствия этой победы подтвердили горькое и сугубо пессимистическое утверждение, гласящее, что история — это почти всегда сцена, на которой жертвы и палачи обмениваются ролями; в данном случае преследуемые изгнанники в одночасье стали господами-преследователями.
Несомненно, изменение характера восприятия национального пространства существенно повлияло на формирование израильской культуры в период после 1967 года, однако, по всей вероятности, это влияние не было решающим. С 1949 года в израильском коллективном сознании глубоко засело недовольство «чересчур тонкой талией» и недостаточной территорией Израиля. Это недовольство открыто проявилось в ходе войны 1956 года, когда глава израильского правительства[33] после одержанной военной победы всерьез взвешивал аннексию Синайского полуострова и Газы.
Тем не менее, несмотря на этот значимый, но все-таки единичный и преходящий эпизод, следует предположить, что миф о «земле предков», отчасти поблекший после образования государства, активно вернулся на общественную сцену лишь с Шестидневной войной. Многим израильским евреям представлялось, что любая критика завоевания Восточного Иерусалима, Хеврона и Бейт-Лехема может подорвать легитимность более раннего захвата Яффо, Хайфы и Акко, гораздо менее значимых элементов мозаичного моста, связывавшего сионизм с мифологическим прошлым. Ведь, согласившись, хотя бы в принципе, с концепцией «исторического права возвращения на родину», трудно возразить против ее реализации как раз в самом сердце «древней родины». Разве не были совершенно правы мои товарищи-солдаты, полагавшие, что не пересекают никакой границы? Разве не в предвкушении этого момента мы, среди прочего, изучали в своей сугубо секулярной школе Библию как отдельную историческую дисциплину?
Я не мог предположить в то время, что «зеленая линия» прекращения огня[34] так быстро исчезнет с карт, выпускаемых израильским Министерством просвещения, равно как и то, что представления будущих поколений о границах родины окажутся столь отличными от моих. Я просто не осознавал, что мое государство с самого момента его основания не имело настоящих границ — были только гибкие и подвижные приграничные области, подразумевавшие опцию территориальной экспансии[35].
Ввиду своей невероятной политико-гуманистической наивности я и в страшном сне не мог вообразить, что Израиль решится официально аннексировать Восточный Иерусалим и назовет воссоединенный объект «городом, сочлененным воедино», как в 123-м Псалме[36], не предоставив при этом — ни тогда, ни теперь, сорока пятью годами позже, — его арабским жителям, составляющим треть населения насильно объединенной столицы, полных гражданских прав[37]. Я не мог представить, что премьер-министр Израиля будет убит смертоносным патриотом, решившим, что этот премьер-министр может, не дай бог, отказаться от оккупированных «Иудеи и Самарии». Сходным образом, я не мог вообразить, что окажусь в безумном государстве, министр иностранных дел которого, приехавший в страну в двадцатилетнем возрасте, проживал в ходе всей своей министерской каденции вне ее суверенных границ.
В то время я еще не мог предугадать, что Израиль сумеет в течение десятилетий удерживать контроль над многочисленным палестинским населением, лишенным гражданских прав и суверенитета, причем израильская интеллектуальная элита в подавляющем большинстве примирится с таким состоянием дел, а принадлежащие к ней историки, со временем — мои коллеги, будут называть это население «арабами Страны Израиля»[38]. В то время я не мог вообразить, что власть над новым «местным чужаком» будет осуществляться не в условиях «ущербного гражданства» — посредством военной администрации, сионистско-социалистического отчуждения и «иудаизации» земель, как в добром старом Израиле в границах 1967 года, — но посредством тотального лишения его прав и свобод, а заодно и экспроприации природных ресурсов «вожделенной земли» в интересах пионеров-поселенцев, принадлежащих к «еврейскому народу». Я не мог себе представить, что Израилю удастся поселить на новых оккупированных землях более полумиллиона человек, которые обоснуются там, отгородившись заборами, абсолютно отдельно от местного населения, лишенного элементарных человеческих прав, и таким образом ярко обозначить колонизаторский, этноцентристский и сегрегативный характер всего своего национального предприятия — с самого его начала. Короче говоря, я не знал, что мне предстоит прожить большую часть своей жизни бок о бок с системой военного апартеида, необычного и хитро задуманного, причем «просвещенному миру», отчасти оттого, что его терзает старая вина, придется мириться с ней и поневоле в какой-то степени ее поддерживать.