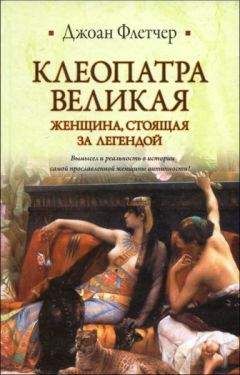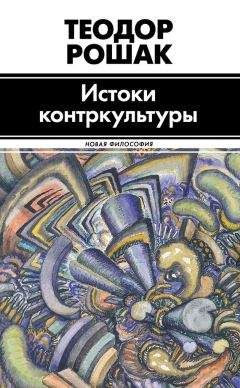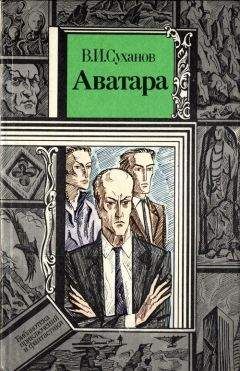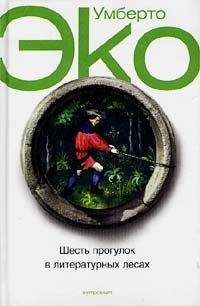Николай Суханов - Записки о революции
До Сергиевской я забежал на Монетную, в редакцию «Летописи». Ни в редакции, ни в конторе также никакой работы не было. Все были полны событиями и новостями. Мне рассказывали, какие районы города оцеплены полицией и войсками и как лучше добраться до Таврического сада. Но рассказы эти не оправдались по той причине, что в действиях властей не было ни тени решительности и еще меньше планомерности. Районы оцеплялись и освобождались без всякого плана и смысла. Движение разливалось в общем совершенно свободно, начиная убеждать в бессилии Хабаловых и Треповых самых отъявленных пессимистов.
Почти у подъезда «Летописи», у ворот соседнего завода, я натолкнулся на небольшую группу штатских, с виду рабочих.
– Они чего хочут, – говорил один с мрачным видом. – Они хочут, чтобы дать хлеба, с немцем замириться и равноправия жидам…
«Не в бровь, а прямо в глаз», – подумал я, восхищенный этой блестящей формулировкой программы великой революции.
У Н. Д. Соколова меня ждало разочарование. Собрание не носило никакого подобия представительства организованных групп и не представляло сколько-нибудь полно даже демократических течений. Оно носило совершенно случайный и притом однотонный характер. Пришли главным образом представители радикальной «народнической» интеллигенции. В числе присутствующих, в большинстве довольно безличных, я помню Н. С. Русанова, В. М. Зензинова, Чернолусского. В такого рода собрании даже теоретическое выяснение интересующих меня вопросов не представляло интереса.
Н. Д. Соколов ожидал прихода авторитетных представителей большевиков, но никто из них не явился. Вместо них явился Керенский, который пришел прямо с заседания думского «сеньорен-конвента» и мог служить, конечно, незаменимым источником информации о настроениях и планах руководящих политических групп буржуазии.
Рассказ Керенского, как всегда возбужденный, несколько патетический и несколько театральный, говорил главным образом о панике и растерянности буржуазно-депутатской массы. Что же касается лидирующих кружков, то все их помыслы и усилия сводились не к тому, чтобы оформить революцию, пристать к ней, попытаться овладеть ею и стать на ее гребне, а исключительно к тому, чтобы избежать ее. Предпринимались попытки сделок и комбинаций с царизмом; политиканская игра велась вовсю. Но все это было не только независимо от народного движения, но явно вопреки ему, явно за его счет, явно ему на гибель.
Надо сказать, однако, что Керенский меньше всего вел свой рассказ именно в таком освещении. Керенский, напротив, в такой растерянности одних и в спешных комбинациях других был склонен усматривать одни благоприятные симптомы, свидетельствующие об остроте положения. Закружившись в вихре событий, находясь в горниле политиканства, он явно не охватывал и не оценивал основных пружин и характерных штрихов возникающей революционной ситуации.
Между тем подчеркнуть отмеченные штрихи в позиции руководящей буржуазии крайне полезно. Мы знаем, как склонен или, по крайней мере, был склонен наш либерализм представлять роль в революции нашей буржуазии и, в частности, Государственной думы. Кому неизвестны постоянные, систематические утверждения, что именно цензовые круги, группировавшиеся вокруг Государственной думы, ликвидировали царизм, что именно они первые подхватили революционный порыв народа и чуть ли не самостоятельно произвели революцию?
Действительное положение дел мне еще придется до некоторой степени осветить в моих дальнейших записках (как сказано, отнюдь не претендующих на значение исторического очерка революции). В момент же, о котором идет речь, позиция буржуазии, от кадетов и прогрессистов до правых думских фракций, была совершенно ясна: это была позиция, с одной стороны, отмежевания от революции и выдачи ее царизму, с другой – использование ее для своих комбинаций. Но это, отнюдь, не была позиция присоединения к ней, хотя бы в форме ее покровительства.
Не получив из рассказа Керенского материала по особо интересующим меня сторонам дела, я предпринял безнадежные попытки осветить самому себе вопрос путем активного вмешательства, путем прямых и косвенных расспросов. Сам Керенский, конечно, мог иметь соответствующий материал в результате своего непрерывного общения с различными думскими кругами. Однако из моих попыток ничего не вышло, кроме недоразумения, показавшего, что для Керенского, как и для некоторых из присутствующих, поддержавших его, моя постановка вопросов и проблема о будущей власти кажутся никчемными и, во всяком случае, несвоевременными, не относящимися к делу. Я столкнулся с тем же настроением моих собеседников, с каким сталкивался и вчера у представителей левых (циммервальдских) групп, с какими сталкивался и впоследствии, до самого момента образования первой революционной власти.
Керенский принял обычный в разговоре со мной полемический тон и скоро начал сердиться, так что я предпочел прекратить беседу, не вызывавшую достаточного интереса у присутствующих.
В квартиру Н. Д. Соколова приходили новые люди и приносили совпадающие между собой известия о небывало грандиозном движении на улицах. Центральные части представляли собой сплошной митинг, причем население как будто особенно тяготело к Знаменской площади. Там с подножия памятника Александру III ораторы левых партий говорили непрерывно и совершенно беспрепятственно. Основным лозунгом было по-прежнему «Долой войну!», которая наряду с самодержавием толковалась как источник всех бедствий, и, в частности, продовольственной разрухи.
Вместе с тем сообщения говорили о растущем разложении среди полиции и войск. Полицейские и казачьи части в большом количестве разъезжали и расхаживали по улицам, медленно пробираясь среди толп. Но никаких активных действий не предпринимали, чрезвычайно поднимая этим настроение манифестантов. Полиция и войска ограничивались тем, что отбирали красные знамена в тех случаях, когда это было технически удобно и не обещало свалки.
В это время принесли первое сообщение о симптоматичном эксцессе в какой-то казачьей части. Полицейский пристав, ехавший верхом во главе полицейского отряда, бросился с шашкой на знаменосца или на оратора; тогда на него налетел бывший неподалеку казак и отрубил приставу руку. Пристава унесли, но, как говорили, никаких дальнейших последствий на улице этот инцидент не имел…
Наше заседание приняло окончательно характер беспорядочной, приватной беседы. И, помню, Н. Д. Соколов ко мне, в частности, обратился с речью, содержание которой я оценил лишь впоследствии. Как представитель оборонческого течения, он указывал на опасность тех антивоенных лозунгов, вокруг которых происходит народное движение, на которых партийными ораторами фиксируется по преимуществу внимание масс. Соколов подчеркивал при этом не ту сторону дела, которая все время интересовала меня – не неизбежный отказ буржуазии присоединиться к революции при таких условиях, он указывал на неизбежность раскола на этой почве в среде самой демократии, даже в среде пролетариата. Этой стороне дела я тогда не придавал значения просто потому, что слишком верил (может быть, преувеличивая) в монопольное господство среди масс тех партий и течений, которые представляли социалистическое меньшинство в Германии или во Франции. К тому же характер наступившей революции был совершенно неясен, и, в частности, никто не мог предусмотреть роль в ней армии с ее офицерско-мужицким составом. Раскол в самих активных революционных пролетарско-армейских кадрах вскоре же оказался действительно важнейшим фактором, при свете которого приходилось направлять всю военную политику революционной демократии. Но тогда этой стороной дела я не интересовался, уделяя свое главное внимание позиции крупнобуржуазных кругов и их отношению к революции.
Однако так или иначе мы вполне сходились с Н. Д. Соколовым в наших практических выводах. Как человека, более и определеннее других выступавшего против войны, как литератора, имевшего довольно прочную репутацию пораженца, интернационалиста и ненавистника патриотизма, Н. Д. Соколов убеждал меня выступить сейчас как можно решительнее против развертывания антивоенных лозунгов и содействовать тому, чтобы движение проходило не под знаком «Долой войну!». Он говорил, что в моих устах соответствующие аргументы будут лишены злостного контрреволюционного характера и будут более убедительны для руководителей движения. Начавшись же как движение против войны, революция погибнет от немедленных внутренних раздоров.
Как бы ни относился я к такой аргументации, но я всецело сочувствовал ее конечным выводам и обещал мое полное содействие оборонцам и радикальным, группам против последовательных классовых интернационалистских принципов против своих собственных принципов.