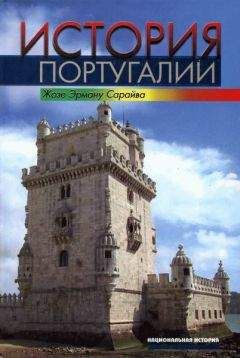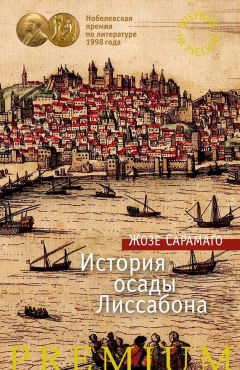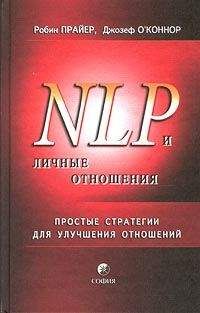Михаэль Вик - Закат над Кенигсбергом
Школа немецкая
Другие воспоминания складываются из отдельных сцен, часто как будто незначительных, но, вне всякого сомнения, оставивших глубокий след, ведь внутренний мир ребенка расширяется, главным образом, благодаря самым первым впечатлениям. Первый испуг, первые контакты, первый домашний концерт, первое посещение зоопарка, детского сада, картинной галереи и т. д.
Бабушка Дженни помогает маме, причем не только заботится о порядке, тщательно застилая постели, которые я затем снова разворошу, но и декламирует по памяти стихи и баллады, а некоторые и напевает дрожащим старческим голосом.
Многосторонне образованная и наделенная удивительной памятью, бабушка была еще и хорошей пианисткой с абсолютным слухом. Она поощряла мои импровизации на мягко звучащем рояле «Блютнер» и своими историями будила фантазию. К сожалению, это продолжалось очень недолго. Однажды в коридоре послышался шум: бабушка упала и сломала шейку бедра. Ее пришлось поместить сначала в больницу, а затем в дом престарелых, где она прожила еще несколько лет. Время от времени мы, дети, навещали ее. Она лежала в постели, радовала нас небольшими подарками и что-нибудь декламировала. Но день ото дня слабела, становилась бледней, тише, пока однажды не скончалась. Это чрезвычайно поразило и глубоко тронуло нас. Для меня это было первое знакомство со смертью.
Очень живо запечатлелись в моей памяти и визиты к тете Ребекке. У Пышки, как ее любовно называли, были растрепанные белые волосы, она носила брошь с женской головкой, жила в окружении книг, картин, фотографий, старомодной мебели и цветного фарфора. Она разрешала мне и Мириам осторожно повозиться с пишущей машинкой, обучала нас играть в «ромме» и угощала какао с сахарным печеньем «американец». Посещали ее также тетя Фанни и другие наши еврейские родственники. Позже я узнал, что эти встречи, всегда без отца, были празднованием субботы. Будучи верующими, хотя и не ортодоксальными евреями, мои родственники имели обыкновение собираться в пятницу вечером и при свете двух свечей съедать маковую плетенку с маслом.
Все эти маленькие семейные праздники проходили под знаком неписаного и, по-видимому, из древнего обычая возникшего правила «быть хотя бы в этот вечер как можно более терпимыми и добрыми друг к другу». Оттого-то и запомнилась мне царившая на них атмосфера умиротворения. Люди были взаимно предупредительны, не суетились, не спешили. Гармония в отношениях и празднование субботы сливались для меня воедино, что и привлекало меня в иудаизме. Но главным, что повлияло на мое отношение к еврейству, явилась, несомненно, общая политическая обстановка. К этой теме я постоянно возвращался, причем важное место в моих размышлениях заняли представления о Боге, всю жизнь менявшиеся.
Незабываемые часы проводили мы, катаясь на санках с горки на Луизенвале или на лыжах на Файльхенберге. Плавать я учился в прудах Хаммертайхе. Гулять отправлялись в Юдиттен и Земландию. Воистину, район Хуфен был красивейшим местом!
Затем началась школа, разделившаяся для меня надвое. Сперва я провел год в городской общеобразовательной школе, а потом посещал частную еврейскую. Две школы — два мира, ничуть не похожие друг на друга. Характерным для моих родителей было еще и в 1935 году надеяться, что я смогу прижиться в немецкой школе.
Соседский мальчик Клаус учился там же, и в школу мы ходили вместе. Добродушного Клауса не волновало, что я не стал членом Юнгфолька, не носил соответствующей формы и не посещал нацистских мероприятий, а в это время не проходило и месяца без национал-социалистских празднеств, шествий, собраний и т. п. Однако постепенно большинство моих сверстников начало обращать внимание на мое неучастие в таких мероприятиях. Наряду с прессой и радио, клевету о евреях распространяли, к сожалению, и многие взрослые, воспитатели, а порою даже священники. Зачастую это были «обычные» шуточки и анекдоты об «Ицике» и «шахер-махере», но теперь ими пользовались, чтобы официально демонизировать евреев и сообщать правдоподобие самой лживой пропаганде. А поскольку подавать голос в защиту евреев и вообще высказываться вразрез с официальной точкой зрения запрещалось, эти подстрекательства разъедали души беспрепятственно, словно неразведенная кислота.
Мне не повезло с классной руководительницей, молодой и восторженной приверженкой национал-социализма. Звали ее госпожа Коске, и в моей памяти она оставила неприятный след. Она приветствовала класс бодрым «Хайль Гитлер!», и отвечать полагалось стоя. Еще при знакомстве с личными делами установив, что в классе есть мальчик «моисеева» вероисповедания, она не упускала случая, чтобы не отозваться о евреях с презрением и даже с отвращением, хотя, подобно большинству антисемитов, по всей вероятности, не была знакома лично ни с одним евреем. Свой антисемитизм она проявляла, например, так: «Хайль Гитлер, дети! Сегодня с вашей помощью я заполню анкеты. Для этого мне нужно знать воинские звания и награды ваших отцов, а также место их службы — на фронте или в тылу». Кроме трех мальчиков и меня, все семилетние дети знали, кем были их отцы в первую мировую войну. Трое незнавших получили разрешение сообщить нужные сведения на следующий день, мне же было велено пойти справиться домой прямо сейчас. Мама, несколько удивившись, поручила сказать, что отец служил не на фронте, а в лазарете. Вернувшись в школу, я сообщил о том, что узнал, и в первый момент не понял, что имела в виду госпожа Коске, когда, обратившись к другим детям, воскликнула: «Вот видите, так я и думала! Такой человек, конечно, и не воевал!» Ощущение, что была выискана причина, чтобы унизить меня, дать мне почувствовать мою неполноценность, оказалось настолько сильным, что и сегодня при воспоминании об этом эпизоде мне делается больно за себя и за своих родителей.
В другой раз это было незадолго до начала занятий. Она стояла на верхней площадке длинной школьной лестницы, по которой мы все поднимались, прежде чем вежливо поздороваться с нею, причем одни говорили «Доброе утро», другие — «Хайль Гитлер». Когда я произнес «Доброе утро», она злобно набросилась на меня: «Марш вниз, и мы еще раз посмотрим, знаешь ли ты, как в новой Германии здороваются со своей классной руководительницей!» Я понял, что она имеет в виду, и, глубоко обиженный, под любопытными взглядами одноклассников и многих других мальчиков, снова поднялся по длинной лестнице и послушно произнес: «Хайль Гитлер, госпожа Коске». Но это ее нисколько не удовлетворило. Наслаждаясь своей властью и разыгрываемым спектаклем, она приказала мне снова взойти по лестнице и при приветствии поднять правую руку, «как подобает приличному мальчику». Я выполнил и этот приказ, а что мне оставалось делать? После таких подстрекательств мои одноклассники начали все больше издеваться надо мною и все чаще с рукоприкладством.
Однажды пронесся слух: «Едет фюрер!» В тот день Гитлер посещал Кенигсберг, и всех школьников выстроили в шеренги вдоль улиц, по которым он должен был проследовать. Недалеко от выделенного нашему классу отрезка улицы, примерно в четыре метра, госпожа Коске велела нам построиться в шесть рядов. Улицы уже были оцеплены штурмовиками в коричневой униформе, сдерживавшими толпы. Мы промаршировали по тротуару до отведенного нам места, где получили команду «стой» и «налево». Теперь мы стояли, по-прежнему в шесть рядов, вдоль проезжей части. Я случайно оказался в первом ряду, откуда можно было без помех наблюдать грандиозное зрелище, которому, по слухам, предстояло начаться через полчаса. Весь участок следования тем временем заполнился зрителями, людьми в униформе и знаменами. Поскольку каждой семье было предписано вывесить из окна минимум по флагу, Кенигсберг уподобился волнующемуся морю полотнищ со свастикой. Через каждые пятьдесят шагов над улицей висели транспаранты, возвещавшие: «Народ — рейх — фюрер!», «Да здравствует любимый фюрер!» и др.
Видимо, в тот день моим родителям пришлось отправить меня в школу, но они, конечно, не знали, что школьникам предстоит стать ликующей толпой. Во всяком случае, я снова оказался в затруднительном положении, поскольку, разумеется, тоже был заворожен этим грандиозным спектаклем, охвачен всеобщим возбуждением и ожиданием и в глубине души хотел быть сопричастным происходящему и вместе со всеми искренне ликовать. Время от времени мимо нас проезжали блестящие автомобили, в которых сидели страшно важничающие минигитлеры в черной или коричневой униформе, и всякий раз мне казалось, что наступил исторический, как называла его госпожа Коске, момент. Но полчаса ожидания превратились в полтора, а затем в два. Между тем улицы наполнились до отказа, и казалось, что теперь уже, действительно, недолго осталось ждать. До сих пор отчетливо помню общее экстатическое состояние. Все упивались чувством собственного достоинства, а те, кому оно было прежде незнакомо, — его обретением. Все ощущали себя энергичным, великим и смелым народом, получившим от Бога гениального вождя, способного решить любую задачу. О чем бы ни шла речь — о национальном самосознании, смысле жизни, воспитании, культуре и расовых проблемах или о расценочных нормах, экономике и безработице, ему был ведом правильный ответ. Величайший вождь всех времен, как называли Гитлера его приближенные, он обещал сделать Германию центром Вселенной.