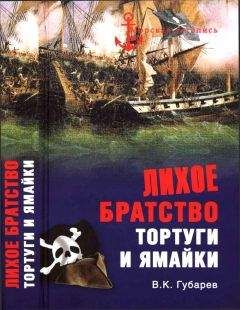Константин Богданов - Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры
Бальзамирование тела Ленина придавало надеждам на телесное «пробуждение» вождя революции, конечно, вполне символический, а не буквальный смысл; но сам по себе способ столь странного для России сохранения мертвого тела вполне соотносится с (около)научными утопиями 1920-х годов о возможности посмертного оживления покойных[778]. Среди разделявших веру в такую возможность выделялся, в частности, работавший в эти же годы в Ташкенте специалист в области искусственно-химической мумификации холоднокровных и теплокровных животных доктор медицины И. П. Михайловский (1877–1929)[779]. После смерти сына Покровский мумифицировал его труп, который держал в своей лаборатории с неопределенной целью; знавшие причуды эксцентричного доктора (покончившего жизнь самоубийством 5 августа 1929 года) не исключали, что этой целью было оживление мертвого тела[780].
Те же утопии подпитываются и собственно литературной традицией. В послереволюционные годы русскоязычному читателю регулярно предлагаются тексты, включающие сюжеты на темы искусственного усыпления и технологически контролируемого сна-пробуждения. В дополнение к ценным наблюдениям Ирен Масинг-Делич в ее монографии о «преодолении смерти» в русской литературе[781] можно указать на целый ряд обширных и взаимопересекающихся контекстов, ответственных за литературную популяризацию темы анабиоза — от философии «общего дела» Николая Федорова по «оживлению отцов», мечтаний Циолковского о надлежащей селекции человеческого рода, поэтических манифестов русских биокосмистов-имморталистов («Поэма Анабиоза» и роман-утопия «Аргонавты Вселенной» Александра Ярославского, 1922, 1926; трактат «Смертобожество» Александра Горского и Николая Сетницкого, 1925)[782] до естественно-научных исследований в области медицины: эндокринологии и геронтологии[783].
В череде литературных примеров, выразивших жизнестроительные надежды на анабиотическое усыпление, вполне симптоматичен рассказ Бориса Пильняка «Дело смерти» (1927)[784]. Герои рассказа — академик Павлищев и его коллеги — работают в Институте Жизни над «вопросами биологии клетки». Смерть, «само понятие» которой для Павлищева «чуждо и враждебно», озадачивает академика своей необъяснимостью. Патолого-анатомическое вскрытие демонстрирует, что причины, вызывающие смерть, зачастую слишком неочевидны и, вероятно, коренятся в наследственности, о которой, по признанию академика, увы, «мы еще очень мало знаем. Один человек простуживается и схватывает насморк, другой при тех же обстоятельствах заболевает воспалением легких». Чтобы приблизиться ко времени, когда искомое знание будет достигнуто, Павлищев решает погрузить себя в анабиоз. Судьбоносный поступок предваряется монологом академика, обращенным к анатому:
Человек это отлитая форма жизни. Человечество еще ничего не знает о законах жизни. Нелепо разбивать форму, если она может еще пригодиться. Мухи застывают зимой и оживают летом. Семена сковываются морозом в почве и прорастают весной. Восстановить индивидуальную жизнь можно будет только тогда, когда будет сохранена ее форма. Наука должна прийти к умению владеть человеческой жизнью, а я еще хочу посмотреть и прожить до тех пор, пока во мне есть жизненный рефлекс. Человечество пришло уже к способам лечения путем замораживания, — путем замораживания следует делать пересадку тканей. Вопросы бессмертия лежат, я полагаю, в области замораживания и оживления живого организма, — или по крайней мере — замораживание даст возможность сохранить форму до того времени, когда подоспеет человеческое знание[785].
Попрощавшись с анатомом, академик ставит себе «последний клистир», а затем со шприцем спускается в институтский склеп. На двери склепа Павлищев приклеивает записку: «Прошу хранить мое тело замороженным впредь до того, пока наука не найдет способа оживить меня»[786].
Надежды отсрочить или даже и вовсе преодолеть смерть захватывали в конце 1920-х — начале 1930-х годов очень многих, включая Максима Горького. Выступая на совещании писателей, композиторов, художников и кинорежиссеров 10 апреля 1935 года, Горький советовал одному из выступавших обратиться к работам биолога Э. С. Бауэра, занимавшегося изучением «клетки живого организма» в целях продления жизни[787], и не исключал, что люди, «может быть, чудесною силою соединенных воль, победят смерть»[788].
Изучение старения и проблем долголетия становится одним из ведущих научных направлений советской науки (демонстрирующей в данном случае характерную амплитуду, соответствующую возрасту руководителей партии и правительства)[789]. Но научные надежды на практическое применение анабиоза иссякают достаточно быстро[790]. К концу 1930-х годов редеют и литературные рассказы на эту тему, а там, где они есть, писательское внимание переключается на более злободневные сюжеты[791]. До 1953 года единственным «анабиотическим» экспонатом советской культуры остается Мавзолей с «вечно живым» Лениным.
Вариации в изображении неусыпной власти не меняют, впрочем, главного. Единственным, кто не изображался в культуре 1930–1940-х годов спящим, был сам Сталин. В серьезности этого неписаного правила в 1933 году пришлось убедиться драматургу Николаю Эрдману, арестованному прямо на съемках фильма «Веселые ребята», ставившегося по его сценарию (соавтором Эрдмана был Владимир Масс). Причиной ареста Эрдмана, по общему мнению мемуаристов, стали его стихи и басни, прочитанные в присутствии Сталина подвыпившим В. И. Качаловым. Вторая жена Эрдмана Н. В. Чидсон вспоминала, что Качалов прочитал басню «Колыбельная», обыгрывавшую уже привычную к тому времени тему — покойный сон советских людей и неусыпное бодрствование их вождя:
Видишь, слон заснул у стула,
Танк забился под кровать,
Мама штепсель повернула,
Ты спокойно можешь спать.
За тебя не спят другие
Дяди взрослые, большие. <…>
В миллионах разных спален
Спят все люди на земле…
Лишь один товарищ Сталин
Никогда не спит в Кремле.[792]
О никогда не спящем Сталине позднее вспомнит еще один писатель и тоже заключенный ГУЛАГа — Юз Алешковский в знаменитом стихотворении «Товарищ Сталин, Вы большой ученый» (1959):
Вам тяжелей, вы обо всех на свете
Заботитесь в ночной тоскливый час,
Шагаете в кремлевском кабинете,
Дымите трубкой, не смыкая глаз.[793]
Более осмотрительные современники Эрдмана и Алешковского не иронизировали на тему бессонницы вождя. Утреннюю благодарность разделял с советскими литераторами Анри Барбюс, завершавший предназначенное им для западного читателя (но своевременно напечатанное по-русски) житие «Сталин» пассажем, который уже вполне конденсировал в себе угар народившегося культа:
Когда проходишь ночью по Красной площади, ее обширная панорама словно раздваивается: то, что есть теперь — родина всех лучших людей земного шара, — и то архаическое, что было до 1917 года. И кажется, что тот, кто лежит в Мавзолее посреди пустынной ночной площади, остался сейчас единственным в мире, кто не спит; он бодрствует надо всем, что простирается вокруг него, — над городами, над деревнями. <…>
Кто бы вы ни были, вы нуждаетесь в этом друге. И кто бы вы ни были, лучшее в вашей судьбе находится в руках того другого человека, который тоже бодрствует за всех и работает, — человека с головою ученого, с лицом рабочего, в одежде простого солдата[794].
Но вот вопрос: что снится советским людям, пока за них бодрствуют кремлевские квартиранты?
О снах и условных рефлексах
Множащиеся в 1920-е годы революционно-романтические декларации о сказочных метаморфозах социальной реальности вольно или невольно возрождают сюжеты и топосы, напоминавшие о столь нелюбимых Писаревым и Лениным «пассивных» мечтателях и «сновидцах» русской литературы, и прежде всего — о самых хрестоматийных из них: Манилове и Обломове[795]. Определенный повод к этому дал и сам Ленин своей декларативной привязанностью к роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?» с его многочитающей и сонливой героиней. Сны Веры Павловны о природе, которая «льет аромат и песню, любовь и негу в грудь», о гражданах Новой России, живущих в доме из чугуна, алюминия и стекла, а также о терапевтической эйфории труда («кто не наработался вдоволь, тот не приготовил нерв, чтобы чувствовать полноту веселья») можно было бы адресовать и Ленину, повторившему название романа Чернышевского в названии своей статьи («Что делать?», 1902), призывающей мечтать и цитирующей Писарева[796]. Вышедший в сентябре 1924 года кинофильм Я. Протазанова «Аэлита» (сценарий Алексея Файко и Федора Оцепа по мотивам одноименного романа А. Н. Толстого) делал зрителя свидетелем сновидения, в котором занимательно переплелись мечты о космических полетах и мировой революции, традиция литературно-сказочных мечтаний и философических грез о «человеке будущего»[797]. Литературную летопись надлежащих снов продолжал Михаил Шолохов сценой из рассказа «Нахаленок» (1925). Герой шолоховского рассказа — маленький станичник Мишка — общался во сне с Лениным — «высоченным человеком в красной рубахе» (автор, конечно, не задумывался при этом, что в русском фольклоре так иногда — как прельстителя и потому «красавца» — изображали черта или лешего)[798].