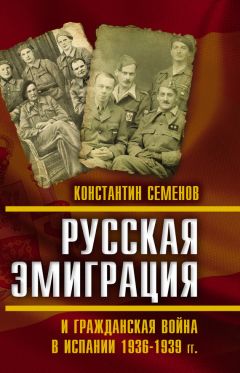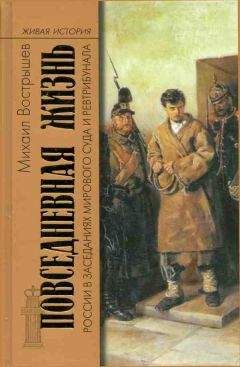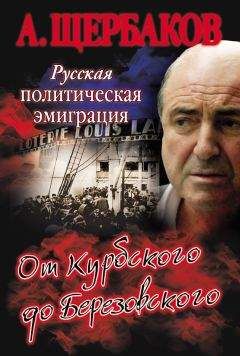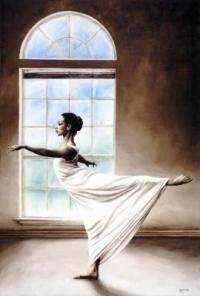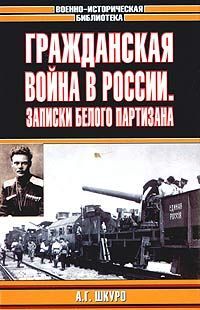Алексей Зверев - Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920–1940
Уставал он смертельно, болел все чаще и тяжелее. Все мечты были о летних полутора месяцах, когда, сбежав из Парижа на юг или хотя бы неподалеку, в Версаль, Ходасевич мог заняться тем, что для него становилось делом жизни: биографией Державина и обдумыванием давно манившей книги о Пушкине.
Биографию он написал, она вышла в 1931 году. Книга, которой все от него ждали к юбилею, с размахом отмеченному в Рассеянье шесть лет спустя, так и не появилась, дело не пошло дальше исправленного, часто переделанного варианта старой его работы «Поэтическое хозяйство Пушкина». Она вышла еще в 1924-м в Ленинграде, и вспоминать о ней Ходасевич не любил, даже стыдился.
Берберова свидетельствует, что самым обычным состоянием Ходасевича в его первые парижские годы была подавленность. Он постоянно думал о самоубийстве, она опасалась оставлять его одного больше чем на час: может выброситься в окно, открыть газ. Возвращаясь из редакции на свою улицу дешевых отелей, куда приходят проститутки с клиентами, Ходасевич принимался жаловаться на то, что унижен и раздавлен. Вечерами они сидели за остывшей чашкой кофе на Монпарнасе. Работал Ходасевич ночами, потом у него раскалывалась голова. Доводила до исступления бессонница. Ни надежд, ни перспектив.
Все это пишется много лет спустя, и краски, вероятно, чуть сгущены. Берберовой надо было оправдаться за то, что она ушла от Ходасевича в очень трудное для него время. Они расстались в 1932-м, сохранив, по ее уверениям, самые нежные чувства друг к другу. Для нее непереносимым стало ощущение взаимной связанности, зависимости, то есть несвободы. В конце концов, она была младше пятнадцатью годами и чувствовала в себе жажду жить полноценно, а для этого надо было разомкнуть порочный круг: четыре стены, два человека и убогая повседневность, когда не живут, а только цепляются за прошлое.
Его тяготит ужас перед миром, который — Ходасевич это чувствует так остро, как мало кто другой из его современников, — стремительно несется к катастрофе, грозящей смыть с лица земли все то, что привычно называется духовностью и культурой. А Берберова не знает ни этих тревог, ни приступов отчаянного пессимизма, ей интересно текущее, она устремлена навстречу будущему, которое вовсе не видится ей ни царством бессмыслицы, ни окончательным торжеством хама, о чем на заре века писал Мережковский. Ходасевич не менялся, а только все больше цепенел, предаваясь настроениям и предчувствиям, казавшимся Берберовой слишком беспросветными. А она верила в «мутацию», которой подвержено все живое, в таинственные благотворные процессы изменений и переходов. Трещина, появившаяся в их отношениях, становилась слишком глубокой. И настал апрельский день, когда она вышла из биянкурской квартиры, бросив последний взгляд на распахнутые окна. Ходасевич, пишет она в мемуарах, «стоял, держась за раму обеими руками, в позе распятого, в своей полосатой пижаме».
Осенью он сблизился с Ольгой Марголиной, дочерью петербургского ювелира, крестившейся и ставшей религиозной до восторженности. Последние шесть лет жизни Ходасевича она была его женой, самоотверженно за ним ухаживала, когда выяснилась истинная причина давно его тревоживших болей в печени и он почти не вставал. За его гробом они с Берберовой шли рука об руку.
Через три года гестапо арестовало ее и отправило в концлагерь, где она погибла. Для неарийцев крест был слабой защитой.
* * *Статьи Ходасевича в Возрождении до сих пор не собраны, не переизданы — это сложно сделать, их сотни. Сам он даже не задумывался о книге своей критики. Кое-что вернула из небытия Берберова, через пятнадцать лет после его смерти издав в Нью-Йорке Литературные статьи и воспоминания, произвольно составленный сборник, где очень многое упущено. Как знать, стал бы Ходасевич жалеть об этих потерях? Для него обзоры и отклики на газетной полосе были работой, которая позволяла свести концы с концами, но вряд ли чем-то большим.
Если так, он ошибался. Конечно, призванием Ходасевича, делом жизни была поэзия, однако и талантом критика, даже более редким, природа наделила его сполна. Тяготясь газетной службой, подчас испытывая к ней отвращение, Ходасевич, нечего говорить, запрещал себе что бы то ни было, хоть пустяковую заметку о каком-нибудь малозаметном юбилее или бесцветном литературном вечере, делать спустя рукава. Его почерк узнаваем, пишет ли он о собрании сочинений Бунина или о скверно зарифмованных сердечных признаниях кокетливой дамы, которая вообразила себя поэтом. Спорит ли с Адамовичем, утверждая, что литература во все времена должна сохранить верность своему назначению, или иронизирует над топорно написанными советскими романами «о социалистическом строительстве».
Как критика его не любили и боялись. Он судил жестко, не считаясь со сложившимися репутациями, не обращая внимания на внелитературные обстоятельства, которые взывали бы к большей сдержанности в силу житейских причин. Разгром формальной школы в СССР не поколебал его убежденности в том, что метод этой школы порочен, а писания Шкловского ужасны, и Ходасевич остался при своем мнении, пусть оно оказалось созвучно советским официозным оценкам. Партийные функционеры при литературе разносили формалистов как проповедников «безыдейности», а Ходасевич настаивал на коренном родстве этой школы с большевизмом. Если согласиться с нею, что искусство есть прием и не больше, как религия — только опиум для народа, то духовное содержание русской классики, неприемлемое для новой власти, можно, по примеру формалистов, игнорировать как не имеющее ценности. Очень удобно для разрушающих старый мир до основанья.
В Москве былых футуристов заставили отречься от футуризма как от греха молодости, а для Ходасевича он и был грехом, причем непростительным, хотя «мелкобуржуазная идеология», в которой их теперь обвиняют, тут, разумеется, ни при чем. С футуристами Ходасевич непримиримо разошелся еще в те годы, когда их желтые кофты и эпатажные выходки будоражили интерес, воспринимались как пряная добавка в анемичной атмосфере кончающегося Серебряного века. Перед войной он представлял обожающей публике Игоря Северянина на его поэзовечерах и доказывал, что это истинный поэт, а значит, никакой не «эгофутурист», пусть так написано в афише. Ведь поэзия и футуризм — вещи несовместные: нельзя быть поэтом и при этом игнорировать вопросы, которыми живет настоящий художник, всегда пытающийся понять, «что такое мир, что такое наша жизнь в нем». Вопреки броским лозунгам радикального новаторства, футуризм старомоден, на поверку академичен и нормативен, и нет у него «права называться ни новой, ни школой».
В эмиграции эта давняя вражда возобновилась. Первый год работая в «Возрождении», Ходасевич опубликовал памфлет с издевательским заглавием «Декольтированная лошадь», посвященный Маяковскому. Теперь для неприязни возникли новые основания: Маяковский сделался чем-то вроде литературного полпреда, часто бывал в Париже, с нескрываемым презрением отзываясь об эмиграции, прославлял молот и серп на гербе советской республики. Ходасевич нашел для характеристики его поэзии слова злые, пристрастные, но в чем-то, к несчастью, верные — он назвал Маяковского «глашатаем пошлости». Маяковскому, на взгляд Ходасевича, не отказать в том, что он действительно нов, однако это новизна, губительная для культуры, потому что «он первый сделал грубость и пошлость не материалом, но смыслом поэзии». И весь его пафос — это «пафос погрома и мордобоя».
Через неполных три года Маяковский, затравленный советской сверхбдительной критикой, надломленный историей с Татьяной Яковлевой, запутавшийся в неразрешимом противоречии между порывами к истинной поэзии и велениями общественного долга, застрелился. Ходасевич в апреле 1930-го перепечатал свой памфлет, лишь усилив обличительные ноты. Он знал, что, прозвучав над свежей могилой, такое надгробное слово вызовет возмущение, и на самом деле Роман Якобсон, один из ближайших друзей погибшего поэта, назвал выступление Ходасевича «пасквилем висельника». Им руководили благородные побуждения, но можно понять (хотя вряд ли во всем разделить) и позицию Ходасевича, писавшего: «Откуда мне взять уважение к его памяти?» Неужели следует оплакивать Дзержинского из-за того, что тот не дожил даже до пятидесяти?
Никакой личной ненависти к Маяковскому не было в их раздорах, длившихся без малого два десятка лет. Но для Ходасевича он неизменно оставался символом лжи, политического сервилизма, насилия над духовностью, и от этого своего представления он не отступил, даже когда для его оппонента пробил час настоящей трагедии.
Во главе угла у Ходасевича всегда было искусство, понятое как духовный подвиг, и перед его требованиями отступало все остальное. Невозможно вообразить, чтобы он хотя бы теоретически согласился с Адамовичем, который на упреки за комплиментарную статью о каком-то ничтожестве ответил: «Литература проходит, а человеческие отношения остаются». Короткое, одно время почти дружеское знакомство с Гиппиус не помешало ему со всей определенностью заявить, что, навязывая художнику открыто выраженную идейную тенденцию, она убивает живую душу поэзии, да и просто предает забвению элементарную истину: идеи сами по себе в литературе ничего не значат, пока они не нашли органичного воплощения поэтическими средствами. «Идея произведения возникает на пересечении реального мира с увиденным, преображенным… Искусство, понятое как преображение мира, автоматически заключает в себе идею, — оно идеей беременно».