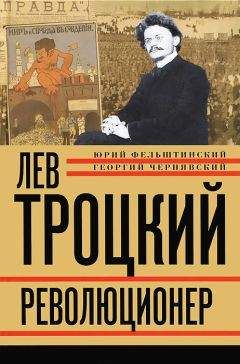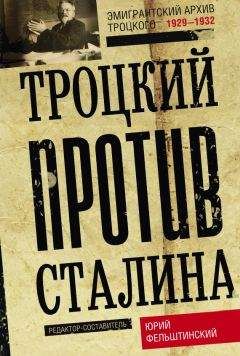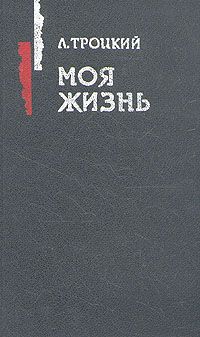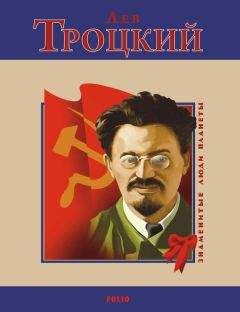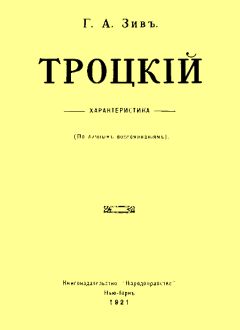Юрий Фельштинский - Лев Троцкий. Большевик. 1917–1923
Ленин сначала терпимо относился к раздражению значительной части партийных кадров против военспецов, так как не представлял себе масштабов этой проблемы. Троцкий вспоминал, что в начале 1919 г. во время очередного приезда в Москву он встретился с Лениным на одном из заседаний. Последний буквально ошарашил Троцкого запиской, в которой содержался вопрос: «А не прогнать ли нам всех специалистов поголовно и не назначить ли Лашевича главнокомандующим?» Можно полагать, что Ленин своим вопросом провоцировал Троцкого, проверял его позицию. Но последний отнесся к вопросу вполне серьезно и раздраженно ответил: «Детские игрушки». После заседания беседа главы правительства и наркомвоенмора продолжилась. Троцкий, по его словам, укоризненно заявил Ленину: «Вы спрашиваете, не лучше ли прогнать всех бывших офицеров. А знаете ли вы, сколько их теперь у нас в армии?» Ленин ответил отрицательно. «Не менее тридцати тысяч», – заявил Троцкий. «К-а-ак?» – удивился Ленин. «Не менее тридцати тысяч, – повторил Троцкий. – На одного изменника приходится сотня надежных, на одного перебежчика два-три убитых. Кем их заменить?» [795]
В появившейся почти сразу же после названного разговора брошюре «Успехи и трудности Советской власти» Ленин уже вполне определенно писал: «Когда мне недавно тов. Троцкий сообщил, что у нас в военном ведомстве число офицеров составляет несколько десятков тысяч, тогда я получил конкретное представление, в чем заключается секрет использования нашего врага: как заставить строить коммунизм тех, кто является его противниками, строить коммунизм из кирпичей, которые подобраны капиталистами против нас! Других кирпичей нам не дано!» [796]
Разговоры о непростых взаимоотношениях между Лениным и Троцким просачивались в самую глубину общественного мнения, причем представители различных социальных слоев толковали сообщения со своих позиций. В феврале 1919 г., незадолго до очередного партийного съезда, Троцкий и Ленин решили опровергнуть слухи. Сначала Троцкий поместил 7 февраля в «Известиях» «Письмо к красноармейцам-середнякам» о том, что эти слухи являются «самой чудовищной и бессовестной ложью, распространяемой помещиками и капиталистами или их вольными или невольными пособниками». 15 февраля одновременно в «Правде» и «Известиях» появился ленинский «Ответ на запрос крестьянина». Речь шла о распространявшихся слухах, будто Ленин и Троцкий не просто не ладят, а между ними есть крупные разногласия «как раз насчет середняка». Ленин полностью подтверждал заявление Троцкого: «Никаких разногласий у нас с ним не имеется, и относительно крестьян-середняков нет разногласий не только у нас с Троцким, но и вообще в коммунистической партии, в которую мы оба входим» [797] . Эти тексты должны были послужить важным сигналом для делегатов созываемого VIII съезда партии, на котором предстояло обсуждение и отношения партии к среднему крестьянству, и военного вопроса.
VIII партийному съезду, открывшемуся 18 марта 1919 г., предшествовала неожиданная и загадочная смерть Свердлова, скончавшегося, как официально было сообщено, от испанки – свирепствовавшей в то время пандемии гриппа. Стал вопрос о новом руководителе ВЦИКа. Явная неувязка заключалась в том, что сам этот орган формально, согласно конституции РСФСР 1918 г., являлся «высшим законодательным, исполнительным и контролирующим органом» государства, но в действительности был фикцией, послушным инструментом в руках большевистских лидеров. В то же время сам Свердлов был весьма властным и влиятельным партийным и государственным деятелем, пытавшимся через ВЦИК сосредоточить в своих руках реальную власть. Временно исполняющим обязанности председателя ВЦИКа после смерти Свердлова стал М.Ф. Владимирский, врач по профессии. Он рассматривался как промежуточная кандидатура. Ленин собирался поставить во главе ВЦИКа Л.Б. Каменева, который уже возглавлял этот орган до Свердлова, что, впрочем, потенциально не исключало конфликта: Каменев, как и Свердлов, тоже мог захотеть через ВЦИК начать управлять государством. Троцкий, видя, как обеспокоен этим вопросом Ленин, цинично предложил на вакантный пост кандидатуру человека, которого можно было бы представить миру как «рабоче-крестьянского» председателя и который обладал бы еще одним, весьма полезным, качеством – не очень образованного и послушного исполнителя воли высших руководителей партии и правительства. Так среди кандидатов всплыло имя Михаила Ивановича Калинина [798] , крестьянина по происхождению, рабочего по опыту работы, получившего лишь начальное образование в земском училище и занимавшего к этому времени невысокий пост комиссара городского хозяйства Северной области.
Ленин счел предложение Троцкого остроумным и, более того, согласился с тем, чтобы новому формальному главе государства, вступившему на этот пост 30 марта, был присвоен придуманный Львом Давидовичем неофициальный титул «всероссийского старосты» [799] . Так под этой кличкой (которая через несколько лет, после образования СССР, была переиначена во «всесоюзного старосту») невзрачный и потому всем выгодный на своем государственном посту «Калиныч из папье-маше» [800] прочно вошел в обиход советской истории, занимая фиктивную должность главы государства более четверти века, вплоть до своей смерти в 1946 г.
3. VIII партийный съезд и военная оппозиция
Такова была ситуация к тому времени, когда военный вопрос оказался одним из важнейших на VIII съезде РКП(б). Впрочем, как раз накануне открытия съезда поступило известие о том, что войска Колчака, наступавшие на Урал, нанесли красным тяжелый удар под Уфой. В связи с этим Троцкий предложил, чтобы все военные делегаты съезда возвратились на фронт, и сам решил немедленно отправиться под Уфу, несмотря на важность предстоявших дебатов. Часть делегатов таким решением осталась недовольна: они приехали в Москву на несколько дней и, рассчитывая устроить себе небольшой отдых в столице, не хотели уезжать. Кто-то даже пустил слух, что Троцкий решил всех послать на фронт, чтобы избежать дебатов о военной политике [801] . Тогда нарком предложил отменить отправку военных делегатов на фронт, но поручить доклад по военному вопросу Сокольникову (который фактически должен был зачитать текст, подготовленный Троцким [802] ). Сам же наркомвоенмор немедленно отправился на Восточный фронт, в Симбирскую губернию, и в съезде участия не принимал [803] . «Я не сомневался в победе той линии, которую считал единственно правильной. Центральный комитет одобрил внесенные мною заранее тезисы и назначил официальным докладчиком Сокольникова» [804] , – писал Троцкий.
На съезде почти не было выступлений, в которых не упоминалась бы деятельность военного ведомства и, естественно, позиция и работа его главы. Ленин в отчетном докладе в вопросе о военспецах открыто поддержал Троцкого: «Мы не сомневались, что нам придется, по выражению тов. Троцкого, экспериментировать, делать опыт» [805] . Сославшись на Троцкого, Ленин как бы одобрил позицию наркома, а она была общеизвестна – строительство регулярной дисциплинированной армии с привлечением старых военных специалистов. В этом, по мнению Ленина, и заключался «эксперимент». Касаясь проблемы о доверии старым офицерам, Ленин сказал: «Возьмем вопрос об управлении военным ведомством. Здесь без доверия к штабу, к крупным организаторам-специалистам нельзя решить вопрос. В частности у нас были разногласия по этому поводу, но в основе сомнений быть не могло. Мы прибегали к помощи буржуазных специалистов, которые насквозь проникнуты буржуазной психологией и которые нас предавали и будут предавать еще годы. Тем не менее, если ставить вопрос в том смысле, что мы только руками чистых коммунистов, а не с помощью буржуазных специалистов построили коммунизм, то это – мысль ребяческая» [806] .
Тема военного положения республики обсуждалась на заседании 20 марта. С докладом, как планировалось, должен был выступать Сокольников, представлявший позицию Троцкого. Предполагая, однако, бурные споры, могшие скомпрометировать ту или иную часть делегатов или же отдельных видных партийцев, слово «к порядку дня» взяла Р.С. Самойлова (Землячка) [807] , дама весьма амбициозная, хотя и малокомпетентная, тем более в военных вопросах. Ее не раз направляли на тот или иной фронт для острастки и самоуверенного вмешательства, на которое она всегда была готова, а потому ее панически боялись военспецы, ибо Самойлова была склонна обвинить любого из них в контрреволюции. Самойлова предложила рассмотреть вопрос на закрытом заседании, так как «у многих делегатов есть мнения, которые могут быть высказаны только на закрытом заседании» [808] . Решено было все же заслушать сначала доклад и содоклад, а затем возвратиться к предложению Самойловой.
Сокольников в своем докладе [809] изложил тезисы уехавшего на фронт Троцкого. Были подчеркнуты успехи в строительстве армии, в частности почти полная ликвидация партизанщины, которая была базой авантюризма и склонялась «либо в сторону наглого бандитизма и мародерства, либо в сторону бонапартизма». Наибольшее внимание было уделено теме военных специалистов. Докладчик считал, что вопрос этот, по которому «было пролито немало чернил», устарел, так как даже бывшие противники применения военспецов теперь пересмотрели негативное к ним отношение. На опыте «выяснилось, что там, где военные специалисты были привлечены, где была проведена реорганизация партизанской армии в армию регулярную, там была достигнута устойчивость фронта, там был достигнут военный успех. И наоборот, там, где военные специалисты не нашли себе применения, где присланных из центра военных специалистов отсылали обратно или сажали на баржу, как это было в Кавказской армии, там мы пришли к полному разложению и исчезновению своих армий, там их нет, они разложились на наших глазах, не вынеся первого серьезного напора со стороны врага».