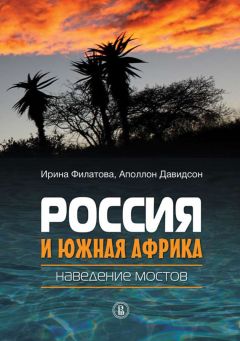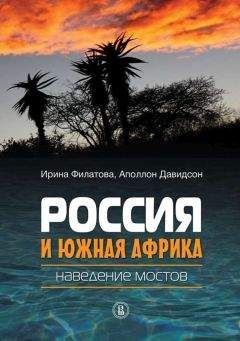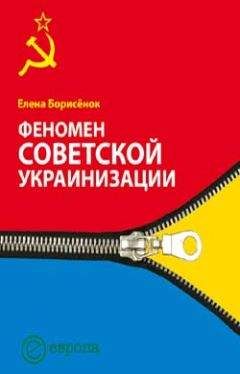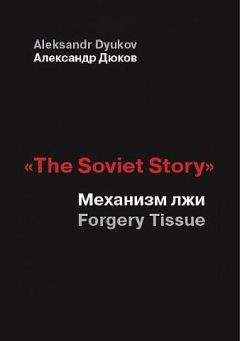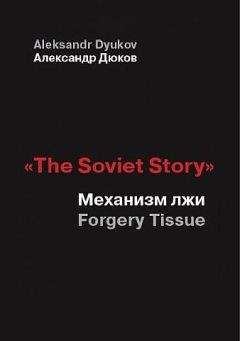Евграф Савельев - Древняя история казачества
Поселенцы эти называли себя Гребенскими казаками, каковое название они принесли с собою с прежнего своего местожительства. К древним станам гребенцов относятся также станицы Щедринская, от атамана Андрея Шадры, Червленая и др.{225}.
Что же заставило донского атамана Андрея Шадру, участника покорения Астрахани, с 300 казаками покинуть родной Дон и уйти в предгорья Кавказа, в далекий неприветливый край, в соседство враждебных, полудиких горских племен? Нелады, раздоры с другими атаманами. Ермак появился на Волге именно в то время, когда Шадра ушел за Терек. У Ермака вышли раздоры с Андреем. Партия его была сильней, и он гнал Андрея вверх по Дону до нынешней Ногавской станицы, где Дон делает поворот с северо-восточного направления на запад. Путь Андрея лежал по глухой степи через Сал, Маныч, Куму и Терек. На след такого направления указывают и существующие до сих пор в ногайской степи так называемые Андреевы курганы, по-ногайски Андрей-Тюбе{226}. Почему курганы эти названы по имени атамана Андрея? Разве мало он на своем пути встречал разных холмов и курганов? Расположение самих курганов показывает, что там была битва, а путь, на котором они находятся, идет от нынешней Ногавской станицы на Куму. Следовательно, Андрей, проиграв в степи последнее сражение, ушел за Терек. Много данных говорит за то, что победитель Андрея был другой донской атаман — Ермак. Усиленный новыми партиями казаков, он пошел на Волгу. Это было в то время делом обыкновенным. Донские и волжские казаки составляли одно войско и часто переходили с одной реки на другую. О несогласиях Ермака с другими донскими атаманами говорит и А. Попов в своей истории о войске Донском, изданной в 1814–1818 гг., добавляя, что Ермак по поручению войска охранял границу со стороны Астрахани и нередко ходил на Каспийское море, разбивал персидские торговые и посольские суда, шедшие вверх по Волге, на что Грозный царь сильно гневался, так как очень дорожил торговыми сношениями с Персией и Бухарой.
Сказание это подтверждается многими историческими актами и сохранившимися на Дону древними казацкими былинами-песнями, собранными А. Пивоваровым и издан, в Новочеркасске в 1885 г. Донские казаки ходили под Казань на помощь Грозному царю и покорили Астрахань и если б только не они, говорит Котошихин, то не были б давно в подданстве за московским царем Казанское и Астраханское царства с городами и землями (см. сноску 220). Из отписки 1632 г. видно, что казаки ходили под Казань с атаманом Сусаром Федоровым и многими другими. Старинные казачьи былины-песни говорят, что в числе этих атаманов был и Ермак, сын Тимофея. Песни эти заслуживают тем большего доверия, что все передаваемые в них события не противоречат в подробностях историческим свидетельствам. Песни эти следующие:
Ермак на турецкой границе в устьях Дона
(Цифры в скобках показывают № песен в сборнике А. Пивоварова)
(12)Как у нас было на Тихом Дону Ивановиче,
Живут, слывут люди вольные, казаки Донские;
Как поставили казаки крепосцу,
Как и крепосцу они новую;
По углам ее стоят башенки,
Как на тех было башенках,
Да и сверх на маковках
Караулы поставлены, часовые расставлены.
Не задолгим помешкавшись; пищать — турка вдарила;
Через два часа помешкавши, еще одна прогрянула;
Через три часа помешкавши, с караула казак бежит,
Он бежит — спотыкается, говорит — захлебается:
Ой ты, батюшка, ты донской атаманушка,
Ермак сын Тимофеевич!
Как у нас было на море
Не черным зачернелося, не белым забелелося,
Зачернелись на море карабли турецкие…
На усть Дона Тихаго,
По край моря синяго
Построилась башенка,
Башенка высокая;
На этой на башенке,
На самой на маковке
Стоял часовой казак:
Он стоял да умаялся.
Не долго не мешкавши
Бежит — спотыкается
Говорит — захлебается;
«Кормилец наш, батюшка,
Ермак Тимофеевич!
Как у нас то на море
Несчастье случилося —
Мечеть зачернелася».
«Это зачернелися
Карабли турецкие.
Садитесь, ребятушки,
На легкия лодочки,
Берите, ребятушки,
Бабайки сосновые,
Поедем, ребятушки,
В море поотведаем:
Что там за диковинка?»
По другому варианту:
(11)«Вы садитесь в легки лодочки,
На носу ставьте по пушечке,
По пушечке медненькой,
Разбивайте карабли басурманские,
Мы достанем много золота
И турецкаго оружия».
По третьему варианту Ермак говорит:
(12)«Догоняйте вы карабли турецкие,
Вы снимайте с турок головы забритые,
Забирайте вы невольничков,
Провожайте их на святую Русь».
Ермак на астраханской и ногайской границах, на Волге, Каспийском море и под Казанью
(13)Пойдемте мы, братцы, на Куму-реку,
На Куме-реке зимовать будем,
Мы поделаем балаганы камышовые,
Разъезды будем иметь дальние
До того-то местечка до урочнаго,
До того-то кургана до высокого…
Не буря шумит и не гром гремит, —
От царя к Ермаку посол бежит,
Подает он указы государевы.
Принимал Ермак указы Сам вычитывал,
Прочитавши указы, речь возговорил:
«Я тебя, посланничка, не слушаю,
А я сам к царю на ответ пойду…»
Тут стал государь его спрашивать:
«Не ты ли Ермак сын Тимофеевич?
Не ты ли воровской донской атаманушка?{227}
Не ты ли гулял там по синю морю?
Не ты ли разбивал мои караблики?
Тут ответ держал добрый молод:
То-то я то Ермак сын Тимофеевич,
То-то я то казачий атаманушка,
То-то я то гулял по синю морю,
То-то я то разбивал караблики,
Но кораблики были не орленые (без царского герба),
Не орленые были, не тавреные,
Не платили государю дани — пошлины…
Царь, прощая ослушание Ермаку, говорит:
Сослужи ты, Ермак, мне службу верную, —
Возьми ты, Ермак, мне Казань город».
По другим вариантам:
(15)Тут ответ держал добрый молодец:
«Ты — надежда наш, православный царь!
Ах не воры мы, не разбойнички,
Мы морские лишь все охотнички,
Разбивали мы там бусы-караблики…
Отслужу я тебе службу верную:
Ты позволь мне, царь, Казань город взять…»
Государь взговорит, как в трубу вструбит:
«Хорошо ты, Ермак, на суду стоял,
Хорошо пред царем ты ответ держал,
Но ой ты, удалой добрый молодец,
Ты Ермак сын Тимофеевич!
Ты скажи, как мне Казань город взять?»
«Ты — надежда наш, православный царь!
Прикажи мне итти с донскими казаками охотничками…
Если рыть подкопы под Казань город,
Закатить боченки зелья лютаго…
Поставлю тебе две свечи воску яраго
И поставлю часового своего надежнаго,
Донского казака, есаулушку любимаго, —
Ты узнаешь, как в Казань город войтить,
Как догорят две свечи воску яраго».
Скликает Ермак Тимофеевич донских казаков:
«Ой вы, донские казаки-охотнички,
Вы донские, гребенские сы яицкими!..
Гряньте, погряньте вверх по Волге реке
В тот славный Казань город…»
На белой заре на утренней
Воску яраго свечи догорают,
Глубокие подкопы разрываются,
Стены каменные разваливаются…
Казань взята. Государь призывает Ермака и говорит:
«Ой ты удалой мой добрый молодец,
Ермак сын Тимофеевич!
Чем ты хочешь, тем буду жаловать,
Селами или подселками,
Или великими городами — поместьями?»{228}
Ермак отвечает:
«Батюшка надежда, свет великий Государь!
Не жалуй ты меня городами, подселками
И большими поместьями, —
Пожалуй ты нам батюшку Тихий Дон
Со вершины до низу, со всеми реками-потоками, Со всеми лугами зелеными
И с теми лесами темными»{229}.
«Как проходит, братцы, лето теплое,
Настает, братцы, зима холодная
И где-то мы, братцы, зимовать будем?
На Яик нам пойтить — переход велик,
А на Волгу пойтить — нам ворами слыть,
Нам ворами слыть, быть половленным,
По разным по тюрьмам поразсоженным,
А мне, Ермаку, быть повешену.
Как вы думайте, братцы, да подумайте
И меня, Ермака, вы послушайте!»
Ермак говорит, как в трубу трубит:
«Пойдемте мы, братцы, под Казань город!
Под тем ли под городом сам Царь стоит,
Грозный Царь Иван Васильевич.
Он стоит, братцы, ровно три года
И не может он, братцы, Казань город взять.
Мы пойдемте, братцы, ему поклонимся
И под власть его ему покоримся!»
Как пришел Ермак к Царю, на колена стал,
Как возговорит Царь Ермаку казаку:
«Не ты ли, Ермак, воровской атаманушка?
Не ты ли разбивал бусы карабли мои военные?»
«Я разбивал, Государь, бусы карабли,
Бусы карабли не орленые, не клейменые!
Отслужу я тебе, Государь, службу важную:
Ты позволь мне, Царь, Казань город взять.
А возьму я Казань ровно в три часа.
Да и чем меня будешь жаловать?»
Как надел Ермак сумку старческую,
Платье ветхое, все истасканное
И пошел Ермак в Казань за милостынью
Побираться, христарадничать,
Заприметил там Ермак пороховую казну
И с тем вернулся он к товарищам.
«Ой вы, братцы мои, атаманы молодцы!
Да копайте вы ров под пороховую казну!»
Скоро вырыли глубокий ров Донские казаки.
Как поставил там Ермак свечу воску яраго
Во боченок ли поставил полный с порохом,
А другую он поставил, где с Царем сидел.
И сказал Ермак Царю Грозному:
«Догорит свеча — я Казань возьму!»
Догорела свеча — в Казани поднялося облако!
Как крикнет Ермак Донским казакам,
Донским казакам, Гребенским и Яиковским:
«Ой вы, братцы мои, атаманы молодцы!
Вы бегите в город Казань скорехонько,
Вы гоните из города вон всех басурман,
Не берите вы в полон ни одной души:
Плен Донским казакам ведь не надобен!»
Итак, по старинным казачьим былинам, Ермак участвовал, в числе других атаманов, в покорении Казани. Былины эти нисколько не противоречат как летописным сказаниям, приведенным историками Карамзиным и Соловьевым, так и бытовым условиям казачьей жизни на Дону, а потому эти былинные сказания мы можем принять вполне за достоверные. Постоянно сталкиваясь с турками, а раньше того с греками, генуэзцами и венецианцами, казаки рано научились владеть огнестрельным оружием, строить укрепления, осаждать и взрывать последние. В Ливонской и Польской войнах, которые вел Иван IV, казаки упоминаются при взятии каждой крепости; приступ, подкоп, взрыв — дело казаков. Летопись называет подкоп под стены Казани «немецким размыслом», т. е. иностранным способом брать город. И казаки в совершенстве владели этим способом. Хотя московские летописи в событиях о покорении Казани ни слова не говорят об Ермаке, но ведь мы выше видели, что они ни словом не обмолвились и об именах других атаманов, даже не упоминают и о донских казаках, а просто говорят: «были казаки, делали подкопы, стреляли» и только. Самое событие взятия Казани было очень важно для Москвы, а что там окраины приходили на помощь, то это была вещь обыкновенная, в порядке вещей. Главный герой этого события был Грозный царь, а за ним его князья и бояре, а не какие-то там донские атаманы-охотники, не подчинявшиеся его приказу и жившие где-то за рубежом государства, «выбирая меж себя начальных людей, атаманов и иных, и чиня управу во всяких делах по своей воле, а не по царскому указу». Для московских летописцев атаманы-охотники было явление второстепенное, не стоящее упоминания; притом Ермак в то время был атаман самый обыкновенный, каких в то время было много на Дону, в каждом стане или коше. Некоторые историки сомневаются в том, что Ермак едва ли мог участвовать в покорении Казани, т. к. в 1552 г. он, по их мнению, был очень молод. Что ж из этого? Пусть ему в то время было 25–30 лет, а при покорении Сибири в 1582 г. 55–60. Удивительного тут ничего нет. В атаманы казаки выбирали не по летам, а по природной храбрости и уму, т. е. по выдающимся качествам.