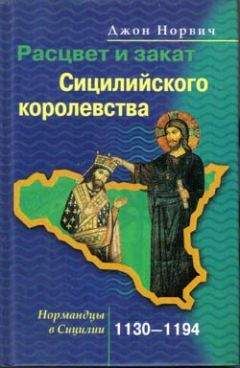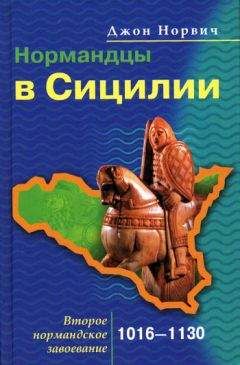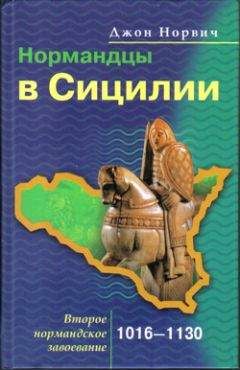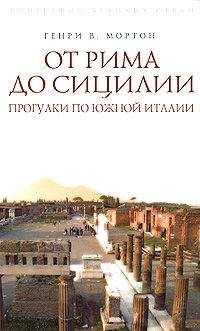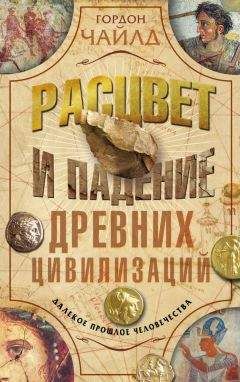Джон Норвич - Расцвет и закат Сицилийского королевства. Нормандцы в Сицилии. 1130–1194
Трое советников, однако, не были в этом уверены. Долгое правление ребенка при регентстве женщины всегда чревато опасностями; престиж короны не полностью восстановился после событий 1161 г.; у аристократии легко могло возникнуть желание возвести на трон незаконнорожденного сводного брата покойного короля, Симона. Юный Вильгельм, помимо всего прочего, никогда не рассматривался как наследник при жизни отца: он не получил даже традиционного для намеченного преемника титула герцога Апулийского. Опасения советников были так сильны, что они настояли, чтобы Маргарита не объявляла о смерти мужа, пока делаются приготовления к коронации, и провела церемонию, как только пройдут три дня траура.
Но они напрасно беспокоились. В день коронации юный Вильгельм, впервые появившийся на публике, завоевал все сердца. В отличие от своего отца, мальчик изначально обладал одним важным преимуществом: он был красив. Когда в кафедральном соборе Палермо Ромуальд Салернский помазал его священным маслом и возложил на его голову корону Сицилии и когда позже он проскакал через город к королевскому дворцу в парадных одеждах, с золотым венцом, все еще сверкавшим на длинных светлых волосах, унаследованных от предков-викингов, его подданные – независимо от их рода, веры или политической ориентации – не могли скрыть своей радости. Раскрасневшийся, но величественный – ему не хватало нескольких недель до тринадцатилетия, – он, казалось, соединял в себе невинность ребенка с серьезностью, не свойственной его возрасту. Преданность и любовь внезапно пробудились во всех сердцах. Даже Гуго Фальканд, описывая коронацию, позволяет себе редкий проблеск нежных чувств:
«Хотя он всегда отличался удивительной красотой, в этот день он казался – почему, я сказать не могу – еще прекрасней, чем прежде… И этим он снискал расположение и любовь всех, даже тех, кто сильнее всего ненавидел его отца и не собирался признавать никого из его наследников и преемников. Даже эти люди объявляли, что любой, замысливший против него зло, навеки станет изгоем. Достаточно, говорили они, что они избавились от виновника всех своих бед; невинный мальчик не должен отвечать за тиранство отца. По правде, ребенок был такой красоты, что невозможно было представить ничего равного ей, тем более – нечто большее».
В тот же день, как еще один знак того, что для королевства началась новая эпоха, королева Маргарита объявила общую амнистию, открыла все тюрьмы и вернула все конфискованные земли прежним владельцам. Еще важнее, что она отменила денежную подать, введенную после бунта для пополнения казны, самое ненавистное из нововведений ее покойного мужа, из-за которого много больших и малых городов на материке полностью обнищали.
Начало было многообещающим, но Маргарита знала, что ей предстоит многое сделать, чтобы закрепить успех. Во-первых, ее не устраивал существующий триумвират советников. Она была волевой женщиной, в тридцать восемь лет еще в расцвете сил, а они, возможно, пытались воздействовать на нее и недостаточно считались с ее верховной властью. Но главное, что делало их неприемлемыми, – как бывшие помощники и выдвиженцы Вильгельма I, они в сознании всех ассоциировались с прежним режимом. Ясно, что их следовало заменить; но кто займет их место?
Многие бароны стремились – и, несомненно, втайне надеялись – теперь занять высокие посты, на которые они так долго зарились. Однако Маргарита отказалась от этого варианта. Аристократы много раз показывали, как непрочна их преданность. Это они подняли оружие против ее мужа, а ее и детей держали в заключении; допустить их в высшие правительственные круги означало позволить бесконтрольное умножеение феодальных владений на Сицилии, в результате которого остров стал бы столь же неуправляемым, как Апулия и Кампания. Это, в свою очередь, привело бы к обострению уже тлеющей конфессиональной вражды; а итогом рано или поздно явилась бы попытка переворота, которой она и ее сын едва ли смогли бы противостоять. К счастью, после падения Маттео Боннеллюса аристократическая партия лишилась предводителя и в ее рядах, похоже, царил разброд. В данный момент она не представляла реальной угрозы, и Маргарита могла обратить свой взор в ином направлении.
Как всегда, имелась церковь – но что она собой представляла? Как и многие высокопоставленные священнослужиители Средневековья, епископы и архиепископы Сицилийского королевства были светскими людьми, более политиканами, нежели прелатами; многие из них никогда не посещали своих епархий[97], а жили постоянно при дворе в Палермо, вмешиваясь не в свои дела, соперничая, споря и интригуя друг против друга. Из всех них самым способным и влиятельным был Ричард Палмер – которого из-за его абсентеизма не утверждали епископом Сиракуз четырнадцать лет после избрания, вплоть до 1169 г. Именно он заставил епископов вмешаться в 1161 г. и спасти Вильгельма I из рук мятежников, после чего стал ближайшим советником покойного короля. Его, однако, не любили за надменность и высокомерие; а его быстрое продвижение вызывало неприятие у его коллег, тем более что он не делал секрета из того, что рассчитывает на высшую награду для сицилийских церковников – вакантное архиепископство Палермо.
Но Ричард Палмер был не единственным претендентом. Ромуальд из Салерно, нынешний примас, казался вполне подходящим кандидатом, так же как и Тристан из Мацары. Кроме того, существовал Рожер, архиепископ Реджо, описывая которого Фальканд превзошел сам себя:
«Стоя уже на пороге старости, он был высок и столь худ, что казалось, неведомый недуг снедает его изнутри. Его слабый голос походил на свист. Его бледное лицо, а в действительности и все тело было кое-где покрыто черными пятнами, что делало его похожим более на труп, нежели на человека; и его внешний вид прекрасно отражал его суть. Он никакую работу не считал трудной, если она сулила какую– то прибыль; и охотно переносил голод и жажду, непосильные для человека, чтобы сберечь деньги. Никогда не радуясь за собственным столом, он никогда не печалился за чужим и часто проводил целые дни без пищи, ожидая приглашения на обед».
В роли гостеприимного хозяина чаще всего выступал Джентиле, архиепископ Агридженто, метко названный Шаландоном «прелатом-авантюристом и бродягой», который изначально прибыл на Сицилию как посол короля Гезы Венгерского, а затем решил остаться там. Джентиле, как не без удовольствия сообщает Фальканд, не делал секрета из своей склонности к разврату и на своих роскошных и, по смутным подозрениям, сопровождавшихся оргиями пирах распространял грязные слухи по поводу Палмера с намерением помешать ему занять желанную кафедру. Его указания на иностранное происхождение епископа в данных обстоятельствах звучали немного странно, но он добился гораздо большего успеха, убедив Маттео из Аджелло, что Палмер участвует в заговоре с целью его убить; Маттео едва не схватился первым за нож[98].
Имелся еще один кандидат на вожделенное архиепископство. В то время его никто не принимал в расчет, поскольку он даже не был епископом. Он тоже прибыл из Англии, и разные варианты его имени – Офамил, Оффамильо и прочее – представляют собой не более чем тщетные попытки сицилийцев передать звучание самого простого английского имени – Уолтер из Милля. Первоначально его пригласили на Сицилию в качестве учителя королевских детей, но впоследствии он сделался архидьяконом в Чефалу, затем деканом в Агридженто. В итоге он стал одним из каноников Палатинской капеллы, где проявил себя человеком еще более честолюбивым и неразборчивым в средствах, чем его соотечественник, продвижению которого он так усердно препятствовал. Из всех соперников именно ему предстояло достичь цели. По причинам, о которых мы еще скажем, ему пришлось ждать три года; затем в течение четверти столетия он занимал высшие церковные и государственные посты в королевстве, выстроил кафедральный собор в Палермо, который стоит и поныне, практически наверняка был единственным англичанином в истории, регулярно подписывавшимся титулом «эмир и архиепископ». В качестве такового он еще сыграет важную – и крайне разрушительную – роль в заключительных главах этого повествования.
Итак, аристократия была ненадежна и представляла постоянную угрозу, церковные иерархи – себялюбивы и – если говорить о верхушке – по-человечески не слишком привлекательны. Оставалась только одна влиятельная группа – придворные чиновники и слуги, возглавляемые каидом Петром и главным протонотарием Маттео из Аджеелло. Даже по меркам евнухов Петр был личностью на редкость бесцветной; но он доказал свою преданность королю и его семье в 1161 г. и обладал отличными организаторскими способностями. По части способностей Маттео ему не уступал; он только что совершил поистине гераклов подвиг, который едва ли оказался бы по силам кому-либо другому, – восстановив, в основном по памяти, регистр земель и фьефов, сожженный во время восстания. Однако он, как и Ричард Палмер, принадлежал к тем властным натурам, которым королева Маргарита интуитивно не доверяла. Кроме того, был одержим идеей получить титул эмира эмиров – который никто не носил со смерти Майо Барийского – и, соответственно, погряз в интригах, всячески строил из себя «большого человека» и потратил немалую часть своего все увеличивавшегося состояния на строительство церкви, как поступили до него Георгий Антиохийский и Майо[99]. Королева предпочла Петра. Не являясь идеальным кандидатом – знать ненавидела его и презирала, – он, по крайней мере, был свободен от личных амбиций и не питал, в отличие от большинства его сотоварищей, особой любви к интригам. Во всяком случае, он мог поддерживать единство королевства, пока она не найдет кого-то более подходящего. К величайшему негодованию Маттео и Ричарда Палмера, королева, обойдя их, возвысила Петра – и тем самым фактически отдала управление одной из богатейших и влиятельнейших держав христианской Европы в руки мусульманского евнуха.