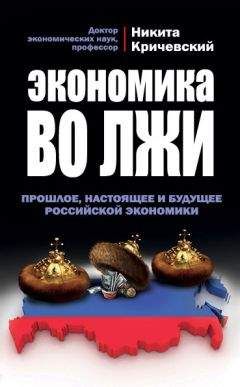Ян Левченко - Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии
На конструктивную роль музыки еще в начале 1924 г. обратил внимание Тынянов: «Музыка в кино поглощается – вы ее почти не слышите не следите за ней. <… > Она дает речи актеров последний элемент, которого ему не хватает, – звук. <… > Музыка дает богатство и тонкость звука, неслыханные в человеческой речи. Она дает возможность довести речь героев до хлесткого, напряженного минимума. Она позволяет устранить из кинодрамы весь смазочный материал, всю “тару” вещей. <…> Как только музыка в кино умолкает – наступает напряженная тишина. Она жужжит (даже если не жужжит аппарат), она мешает смотреть. <…> Музыка в кино ритмизует действие» [Тынянов, 1977, с. 322]. Эйхенбаум начинает там, где кончает Тынянов, когда говорит, что музыка способствует оформлению внутренней речи и при этом не нарушает ее потока. «Музыкальное сопровождение фильмы облегчает процесс образования внутренней речи и именно потому не ощущается сам по себе» [Эйхенбаум, 2001 (b), с. 22; разрядка наша. – Я.Л.]. О ритме же говорится в уточняющем и отчасти полемическом ключе. Ритм кино – столь же общая и неплодотворная категория, что и ритм архитектуры, живописи и т. д. Эйхенбаум неожиданно занимает позицию терминологического пуриста (на которой через несколько лет будет стоять Якобсон). В кино зритель воспринимает не ритм, но общую ритмичность, «которая не имеет никакого отношения к вопросу о музыке в кино». Здесь вряд ли имеет место какой-то застарелый спор с Тыняновым, чей текст не отличался ни точностью, ни излишним буквализмом. По всей видимости, причиной для такой неожиданной оговорки послужило мнение, опубликованное на раннем этапе дискуссии в газете «Кино»: «В основе кино лежит не жест и даже не мимика, а сдержанная выразительность, не движение само по себе, а ритм, очень часто внутренний, неосязаемый ритм, для которого не требуется ни красок, ни слова, ни грубого театрального жеста… Если сравнивать кино с чтением, то я сравнил бы его только с чтением между строк, причем надписи отнюдь не играют роль литературных строк. Гораздо ближе к кино по своей сущности музыка и представляется, что основы кино более музыкальны, чем литературны, ибо свет и звук подчинены общим законам колебания и ритма» [Радецкий, 1926, с. 2]. Путаница в понятиях, маскируемая общими словами, скорее всего, вызвала у Эйхенбаума легкое раздражение. Для него музыка в немом кино была и остается именно посредником, который при всей структурной значимости сохраняет чисто служебную функцию. Сравнение фильма и музыкального произведения не выдерживает критики – таких общих признаков, как развертывание во времени и упорядоченность основных единиц членения, явно недостаточно.
Самостоятельность кинематографа как вида искусства постепенно, с последовательным описанием его признаков, прорастает у Эйхенбаума на фоне заданного в самом начале вопроса: «Является ли кино особым искусством?». В таком построении сказывается уже формирующаяся риторика «толстовского цикла» (на следующий год после «Поэтики кино» появится том «Лев Толстой. Кн. 2. 60-е годы»). Постоянный спор с самим собой, принципиальная стереоскопия в описании проблемы, выработка собственной логической системы, возможно, в ущерб быстрому и эффектному решению исследовательских задач. Эйхенбаума интересует не вклад в копилку бесчисленных произвольных описаний кино, а опыт построения системы, пусть это даже и не получит в дальнейшем развития. Характерным образом, Эйхенбаум принципиально говорит не о раннем коммерческом кино, восторгавшемся своей способностью визуальной репродукции, а о трудном кино, которое рискует остаться непонятым, об экспериментах с сюжетом и монтажом. Эйхенбаум одним из первых русскоговорящих критиков эксплицитно пишет об этом самоограничении. То кино, о котором он говорит, не требует развернутых доказательств своей принадлежности к искусству. Именно вторая половина 1920-х годов ознаменовалась очередным перераспределением претензий: не так давно возникший киноавангард оставил попытки «перевоспитания» масс, а массовое кино, в свою очередь, удовлетворилось чисто коммерческими приоритетами. Так, звезда международного масштаба Дуглас Фербенкс в интервью журналу «Vanity Fair», которое было перепечатано в России, заявлял, что «экран чересчур легковесен», чтобы проводить идеи, приличествующие «большим» искусствам. Поэтому, не без лукавства добавлял Фербенкс, «кино не имеет родственных ему искусств» [Фербенкс, 1926, с. 13]. Некоторый снобизм в адрес массового кино, до сих пор остающийся если не традицией, то привычкой кинокритики, в 1920-е и последующие годы нередко сближался с официальной идеологией, клеймившей кассовые фильмы за бездуховность, интеллектуальную непритязательность и прочие имманентные свойства. У Эйхенбаума этого снобизма еще нет, и дело тут, как кажется, не только в относительной свежести объекта.
Важнейшим шагом в направлении современной кинотеории остается в статье Эйхенбаума рассуждение о «натурализме» в кино. Принцип фотогении, т. е. особого умения вещей быть видимыми, соблазняет как потребителя, так и аналитика интерпретировать кино как более или менее натуралистическое искусство. Эйхенбаум же постулирует, что как только кинематограф освоил свою репрезентативную компетенцию, его перестали интересовать «общие планы» и другие унаследованные от постановочной фотографии миметические приемы. «Заумная», т. е. «фотогеническая» сущность кино стала проявляться именно там, где привычное видение искажалось, где властно заявляла о себе деформация натуры – понятие, ключевое для формальной школы на всех этапах ее существования[209]. Любой так называемый натурализм в кино – это игра по правилам и едва ли не более изощренное проявление художественной условности. Чем сильнее фильм напоминает чью-то «реальность», чем настойчивее отвечает он чьей-то картине мира, тем сложнее процесс его производства, требующий применения всего арсенала монтажных средств. Натуру режиссер использует так же, как писатель – «только при условии подчинения этого материала общему стилевому знаку фильмы и ее жанровому замыслу» [Эйхенбаум, 2001 (b), с. 25]. Исходя из этого, акцент переносится с более частных проблем фотогении на проблему стиля и стилистику – приемы визуальной выразительности и совокупность определенных правил построения кинематографического высказывания.
Итак, «условный характер кинематографа позволил кинематографистам приступить к разработке чисто формальных проблем, таких, как симметрия, пропорция, корреляция линий и плоскостей, сочетание планов и типов освещения, параллелизмы, повторы (и их вариации), проблем, проявляющихся как в сцеплении кадров, так и в их сопоставлении в структуре монтажа» [Galan, 1986, р. 110]. То есть чисто формальные приемы в который раз оказываются у формалистов содержательными, доказательство этого тезиса на разнообразном материале составляет основу их теоретического проекта. Прошло около двух лет с тех пор как (бывший) Зубовский институт присягал «социологическому методу», а теперь в год его юбилея издается книжка, где слово в слово повторяются «вредительские» положения о главенстве формы и технологии да еще и в отношении «важнейшего» из советских искусств. Если в декабре 1924 г. Эйхенбаум еще мог сомневаться, не повредил ли родному институту тем, что выступил против навязывания словесному разряду «более актуальных» методов[210], то в 1926 и, тем более, 1927 г. его уже это обстоятельство не волнует. Ликвидация гуманитарной наук в Ленинграде идет полным ходом. Остается использовать пространство для маневра, точнее, последнего отчаянного жеста.
Эйхенбаум поставил знак равенства между стилем и логикой, структурой. «Как перейти от одного места к другому, от одной параллели к другой – вот основная проблема монтажа при перемене места, требуемой сюжетным движением фильмы. Это – проблема стилистики (логики) и мотивировки» [Эйхенбаум, 2001 (b), с. 26]. Более того, рассуждая о возможных типах этого перехода, уже вполне отвлеченно типологизируя на достаточно случайных примерах, Эйхенбаум приходит к выводу, что даже сюжетная мотивировка не разрешает проблемы, поскольку имеет отношение к истории, а не к пространственно-временным отношениям и темпу монтажа [Там же, с. 33]. История пересказывается при помощи естественного языка – это все еще только литература. Эйхенбаум же вплотную подходит к тому, что не является ни «заумью», ни «языком» в смысле той оппозиции, что была сформулирована им в начале статьи. Это и есть собственный язык кино, понятый как таковой изнутри литературного сознания. Оно сознает свою ограниченность на этой новой территории и умолкает, не в силах дать этой новой практике адекватный метаязык. Тем не менее, и «ассоциирование частей периода» как основная стилистическая проблема монтажа, и попытки построения киносемантики на основе традиционных риторических фигур, переведенных в визуальный регистр (проще говоря, о реализации словесных метафор), не потеряли своей объяснительной силы до сих пор. Следовательно, и вопрос об актуальности снимается как нефункцональный.