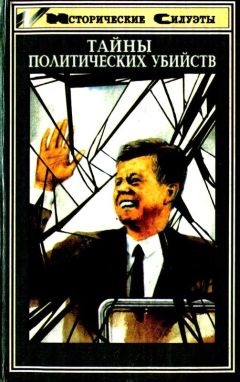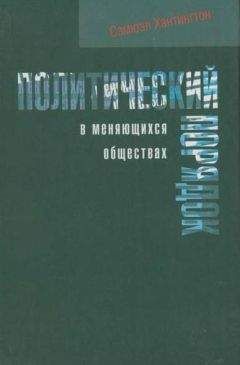Сергей Утченко - Тайны политических убийств
У меня сердце запрыгало. Неужели то, чего не сделала наша проклятая бомба, доделает слепая болезнь… Но я сейчас же охладила себя. Уже самое сопоставление воспаления кишок с сумасшествием показывает, что это только простая обывательская сплетня.
Пауза. Опять призывный стук и мой вопрос.
— Я — Михаил. Сейчас прочел в газете, что Катя арестована на границе в Белостоке.
— Чепуха, ей там нечего делать.
Опять пауза. На этот раз долгая. Стук опять.
— Кто?
— Карл. Не можете ли дать мне деньжонок немного?
— У меня только восемнадцать копеек.
Стук прекращается. Я остаюсь в недоумении.
Что стало с чутким, щепетильным до смешного Карлом?.. И неужели он не понимает, что меньше всех я-то в настоящую минуту могу помочь ему в его просьбе. Больно как-то запечатлевается у меня в мозгу вульгарное «деньжонок». Получил отрицательный ответ, и больше ни слова.
Когда мне приносят обед, опять товарищи — женщины перекликаются со мной. Я узнаю, что их я не увижу на прогулке: они гуляют в другом конце двора, видят окно башни, где сидит Вася. Передают мне от него привет.
Проходят часы в абсолютной тишине.
Она не гнетет, а, напротив, как-то невыразимо приятна. Я лежу в полудремоте на кровати перед остывшей уже печкой или хожу по диаметру башни и думаю о товарищах, оставшихся на воле, о делах, при мне начатых или только предполагавшихся начаться. Приводят ко мне тюремного доктора. Он оставляет какие-то примочки и уходит, апатичный и грубый, с лицом скопца. Опять тишина. Начинает смеркаться. Тишина и сумерки сливаются в один аккорд какого-то безграничного покоя. Я лежу в полузабытьи. Вдруг разом встряхиваюсь и спешу к окну, к отворенной форточке.
Нет больше тишины и нет как будто сумерек. Как будто из другого мира врезаются в это безмолвие могучие, полные отваги и силы слова хоровой песни: «Вихри враждебные…» Стенам, решеткам и штыкам под решетками бросался грозный, властный вызов: «Но мы поднимем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело…» Как будто окрыленные светлой надеждой, что так должно быть и так будет, высоко поднимались голоса: «…знамя великой борьбы всех народов…» Но сейчас же опускались, уверенные и сильные, на землю, которую они завоюют «…за лучший мир».
Кончилась одна песня. Началась другая: песня за песней, и все такие же светлые, бодрые, сильные. Сотни раз слышала я их на студенческих вечерах в Петербурге, и в тесных кружках близких товарищей, и в лодке на реке, и в лесу… но никогда они не говорили мне так много, как сейчас, за стенами и решетками.
Где-то пробил звонок. Слышно было, как товарищи расходились с пением «Марсельезы». Мимо окна прошел уголовный с горящим факелом, красноватые блики запрыгали по снегу, белой стене, сверкнувшему штыку часового и пропали. Опять сумерки, уже совсем густые, и тишина.
Через полчаса приблизительно загремел замок в двери моего коридорчика. Пришли с поверкой. Мне опять принесли чаю с разными вкусными вещами от политических женщин. Зажгли лампу и ушли, заперев уже, вместо одной, две двери — дверь моей камеры и дверь коридорчика.
С этих пор меня держали неукоснительно на двойном запоре, и переговоры с политическими женщинами стали невозможны. Я осталась одна со своей тишиной. Слышны были только шаги над головой. Кто-то ходил равномерно по камере. На прогулке я узнала, кто обитает над моей головой: два буржуа — доктор К. и еще один почтенный господин, архибуржуй.
* * *Потекли дни. Отсутствие книг и газет чувствовалось. Наблюдения и разговоры из окна с гуляющими товарищами, их вечернее пение, треск в печке, изредка краткие, отрывочные перестукивания с товарищами — все это развлекало. В промежутки же между этими развлечениями так хорошо думалось, что не было и тени какой-нибудь скуки.
Один или два раза водили меня в контору для опознания свидетелями и для чтения мне их показаний. Уморительные были некоторые из этих показаний. Так, один свидетель — попросту шпик — говорил, что я особенно в хороших отношениях была с курсисткой такой-то, живущей на такой-то улице (я в первый раз слышала о существовании такой курсистки от этого «свидетеля»), что я такого-то числа в таком-то часу уехала в Гомель и там жила вплоть до акта у доктора такого-то, гомельского «президента» в дни свободы. Разинув рот, слушала я следователя, монотонным голосом читавшего эти фантастические показания забавного свидетеля. Один городовой, отставной артиллерийский солдат, бывший в доме отца в качестве ординарца, показывал: «…услышал я выстрел, обернулся, увидел женщину в платочке с револьвером в руке. Я подумал: да ведь это барышня генерала Измайловича[5]. Но сейчас же решил, что это мне так показалось. Зачем дочь генерала будет стрелять в полицмейстера?»
Это «зачем» было великолепно.
Большое удовольствие, так сказать профессионального характера, доставили мне следующие строки: «Имею честь просить избавить меня от обязанности выезжать в тюрьму ввиду того, что жизнь моя подвергается опасности при каждом моем выезде». Это полицмейстер Норов отвечал следователю на вызов его в тюрьму как свидетеля.
В числе свидетелей была сестра Маня и горничная наша Татьяна. Когда я прошла через первую комнату конторы во вторую, где сидел свидетель, мне пришлось пройти совсем близко мимо сидящих Мани и Татьяны. Маня улыбнулась мне. Татьяна отвернулась и потупилась. Я объяснила это в ту минуту ее неодобрением моего поступка: она любила слушать воскресные человеконенавистнические проповеди соборного попа — ярого черносотенца — и часто спорила с нами, ссылаясь на него. Но после, на свидании с сестрами, я узнала от последних, что Татьяна не могла удержаться от слез при виде моего избитого лица: плакала она и дома обо мне и только не могла Васе простить бомбы: «Ведь сколько бы народу погибло».
Когда следователь записывал показания Мани, что я действительно такая-то, я перемолвилась с Маней несколькими словами.
Маня мне сказала, что по первой версии, которую они услышали, я была убита на месте, так как кто-то видел, как меня везли на извозчике с окровавленным виском. У них был обыск на другой день, продолжительный, усердный. Осмотрели весь дом, службы и сад — искали везде бомб, но, увы, ничего не нашли.
Через несколько дней, после поверки Карл постучал мне в потолок, что он поселился теперь в башне с доктором вместо выпущенного на волю второго буржуа, что мы теперь будем иметь возможность каждый вечер перестукиваться, и он этому ужасно рад. У него уже были планы освобождения нас с Васей, о сущности их он мне не говорил, сказал только, что дело может выйти. Я вспомнила о богатстве его фантазии, но на этот раз ничего ему не возразила.
Через неделю приблизительно, утром, после поверки в окно мое вдруг ударилась корка черного хлеба. Смотрю, перед окном стоит уголовный с шапкой набекрень, с раскрытой грудью, лицо в муке, серые глаза искрятся целым фонтаном веселого лукавства.
— Откройте окно.
Открываю. В окно летит один сверток, другой, третий. А часовой с умным лицом и большими усами дергает его за рукав:
— Уходи, тебе говорят, скорее, — увидят.
Все три свертка у меня, и он уходит.
Коробка с печеньем, монпансье и сверток в газетной бумаге. Быстро разворачиваю его: сборник «Знание», 2 номера «Руси» и записка от Карла. Пишет, что теперь доставка газет мне будет постоянной. Жадно проглатываю газеты и швыряю их в зажженную печку: поведут меня опять зачем-нибудь в контору и спять будут рыться без меня во всем, тот раз я нашла всю постель перерытой.
Этот сборник «Знание» был у меня в руках на воле. Не читала я только тогда «На острове» Данилевского. Помню, начала его, да показалась мне стихотворная форма тяжелой и скучной, и я бросила читать. Открываю его теперь. С первых же страниц упиваюсь красотой образов. За окном голоса. Неохотно кладу книгу под тюфяк и иду к окну. Не идти не могу — товарищи стали бы беспокоиться. Все так же сообщают мне газетные и городские новости Степа, Михаил и хохол. Заговаривают новые знакомцы, мимоходом кланяется Карл и исчезает.
После прогулки читаю опять. Гремит замок — несут обед. Прячу книгу и, как ни в чем не бывало, прохаживаюсь по комнате. Вынимаю и опять читаю. Вот плывут они, смельчаки, волны разъяренные бросаются на них, русалки зовут к себе в бездну, обещая наслаждения. Они плывут все вперед, презирая опасность, наслаждения, все, видя только свою цель впереди… Начинаю читать вслух, но мой голос так странно и ненужно нарушает тишину, что мне делается как-то неловко, и я замолкаю.
Вечером передвигаю, как и всегда, стол к стене, закрываю нижние стекла окна обрывками своей верхней юбки (пригодились они мне здесь), вооружаюсь лучиной, взбираюсь на стол и выстукиваю дробь в стену за печкой. По уговору Карл ждет моего зова, так как не знает, когда я останусь одна. Стучу ему, что не понимаю его скверного настроения и ворчания на надоевшую публику общих камер. Не понимаю его пессимистического ответа на мой вопрос, обращает ли он достаточно внимания на многочисленную публику, полусознательных с.-р. и беспартийных. По-моему, данная тюремная обстановка удивительно благоприятная, как для стремления к собственному росту, так и для помощи другому в его росте: здесь время, впечатлительность и восприимчивость обостряются во много раз. Привожу в пример мое упоение поэмой Густава Данилевского, мои бесконечные думы в тишине, когда мысль льется легче, чем когда-нибудь. Карл возражал, что общие камеры, с их вечным гвалтом, шмыганьем из камеры в камеру, большим процентом «буржуев», с их индивидуальными кофеями, какао и прочей ерундой, далеко не то, что моя полная одиночка. Я возражала. Тогда я еще не понимала того, что понимаю теперь.