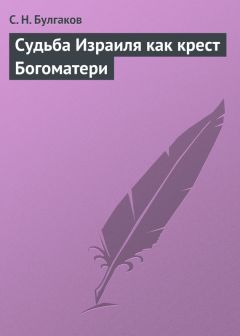Александр Пыжиков - Грани русского раскола
К сожалению, неизменная констатация этого тезиса вытеснила на исследовательскую периферию целый ряд проблем, нуждавшихся в серьезной разработке. В частности, проблему неоднородности отечественного предпринимательского класса, и прежде всего – с региональной точки зрения. Взгляд Ленина совершенно игнорирует специфику различных групп российской буржуазии, особенности их происхождения и формирования. Купечество Центрального, Поволжского районов, с одной стороны, и капиталисты Петербурга и Юга России – с другой, для него мало чем отличались друг от друга. Достаточно сказать, что в своих трудах он нередко пользовался выдуманным им образом Кит Китыча Авдакова, в котором совмещен тип московского купца из пьес А.Н. Островского и реальная личность – горный инженер Н.С. Авдаков, возглавлявший предприятия на юге страны, принадлежавшие иностранному капиталу[690]. Советская историография долго следовала именно этим путем; по сути, только со времени хрущевской оттепели начинает описываться и понемногу осмысляться специфика позиционирования петербургской и московской групп российского делового мира[691]. Петербургская буржуазия была фактически порождением властных кабинетов и пользовалась безоговорочной поддержкой имперского чиновничества. Московское же купечество не обязанное правительству своим происхождением, тоже настойчиво старалось вписаться в траекторию опеки. В этой ситуации отчужденность буржуазии от всякого рода оппозиции государству выглядела закономерной. И нужно особо подчеркнуть, для пореформенного периода ленинский диагноз верноподданнического состояния российского капитализма был абсолютно справедлив. Однако произошедшая в конце XIX века корректировка финансово-промышленных приоритетов повлекла за собой серьезные сдвиги в деловом мире России. Но вождя пролетариата уже не очень занимало это на самом деле ключевое обстоятельство: он не собирался отягощать свои теоритические наработки не нужными с его точки зрения частностями. Соответственно, слабо осмыслялись эти аспекты и в советской литературе. Да и до сих пор не сформирован комплексный взгляд на те причины, которые пошатнули положение купеческой буржуазии и подтолкнули ее к пересмотру механизмов взаимодействия с властью, дав импульс многосложным процессам, далеко превосходящим экономическую проблематику. Между тем, анализ причин оппозиционного разворота московской финансово-промышленной группы позволит лучше понять обстоятельства общественного подъема начала XX столетия.
К середине 1890-х годов московская группа обладала значительной мощью: комфортное таможенное законодательство, выгодные коммерческие сделки с участием бюрократии позволяли ей наращивать финансово-экономический потенциал. И не удивительно, что в первой половине 1890-х вновь заговорили об образовании отдельного Министерства промышленности и торговли, управлять которым должен был глава Московской городской думы Н.А. Алексеев - старообрядец по Рогожскому кладбищу. После его гибели в 1892 году (от рук психически ненормального человека) в Москве по-прежнему предвкушали создание этого ведомства и назначения министром уже Председателя Нижегородского ярмарочного комитета молодого С.Т. Морозова[692]. Однако этим надеждам не суждено было сбыться; вместо них клану предстояли совсем иные хлопоты. Благостную ситуацию взорвал русско-германский торговый договор, заключенный в конце января 1894 года. Необходимость его принятия остро ощущали обе страны, поскольку двусторонние отношения к этому времени находились на низком уровне. Проблема состояла в следующем: с 1887 года при деятельном участии Московского биржевого комитета происходило планомерное увеличение охранительных таможенных пошлин; по новому тарифу 1891 года они стали самыми высокими в Европе. Это никак не устраивало такого крупного производителя, как Германия, чей товарный экспорт в Россию сильно пострадал. В ответ немцы повысили пошлины на основной продукт отечественного вывоза – зерно, что, в свою очередь, больно ударило по российскому дворянству: его доходы, во многом зависевшие от поставок зерна на германский рынок, резко сократились. И вот в ходе переговоров Германия снизила пошлины на экспорт зерна, а Россия, в качестве уступки, – на шерстяную продукцию[693].
Эти-то решения и вызвали бурю негодования московских биржевиков. Процесс разработки и параметры этого торгового договора специалистам хорошо известны, тем не менее, для нас наиболее интересна реакция российских деловых кругов на его принятие. Крупная буржуазия центра, будучи владельцем текстильных отраслей, не только почувствовала себя ущемленной, но и сделала далеко идущие выводы. В самом деле, принципы защиты отечественного производителя, ограждения его от иностранной конкуренции, еще вчера казавшиеся незыблемыми, сегодня были поставлены под сомнение. Как возвещали «Московские ведомости», покровительственная политика, с таким трудом продавленная за последнее десятилетие, подвергается угрозам[694]. Возобновились слухи о происках немецкой партии, которая поднимает голову в правительственных кругах; заговорили о скором крушении российской торговли под мощным давлением Германии. Те же «Московские ведомости» предвещали:
«...Мало кто сомневается, что теперешний натиск германской промышленности на Россию был только первым опытом, так сказать, “пробой пера”... на этом не остановятся, а двинут свои захваты дальше, вновь пустив для этого в ход, как способ давления, ту же нашу хлебную торговлю»[695].
Надо заметить, немногие тогда сомневались, что высокие таможенные пошлины на шерстяные изделия просто-напросто принесены в жертву для восстановления баланса с интересами дворян-помещиков, обеспокоенных сбытом зерновых. Новый конвенционный тариф увеличивал доход землевладельцев на пять рублей с посевной десятины[696]. И тем не менее протекционистские критики правительства сравнивали заключенный торговый договор «с работой каменщика, который для надстройки стен решился бы вытаскивать камни из фундамента того же дома»[697].
Радетели о промышленниках Центра не прошли также мимо того обстоятельства, что уступки германской стороне сделаны не в ущерб, скажем, металлургам Южного промышленного района или машиностроителям Петербурга, а именно за счет фабрикантов Центрального региона. Ставки на металлы и машиностроительную продукцию остались неизменными, что не могло не возмущать текстильных магнатов. И пусть дело касалось только шерстяной продукции -поручиться за то, что подобное не произойдет с другими изделиями легкой и текстильной индустрии, теперь было уже трудно. Вопрос фабрикантов: почему именно наши интересы принесены в жертву? – повисал в воздухе. Объяснения, что, мол, для общей пользы нужно кому-то, а в первую очередь – лучшим сынам России в лице московских биржевиков – пойти на уступки, не вызывали у них прилива энтузиазма[698]. Но, пожалуй, наиболее резкое раздражение вызывало то, каким образом был принят данный торговый договор. «Московские ведомости» сообщали:
«В то время как в немецких газетах еще за несколько месяцев писалось многое об агитации среди немецких фабрикантов за понижение русских ввозных пошлин, у нас о возможности этого понижения никто не догадывался, так как все переговоры с Германией держались в тайне. Эта таинственность оказалась вредною не только потому, что застала нас неподготовленными, но, главным образом, потому, что она помешала высказаться людям наиболее компетентным и заинтересованным в деле»[699].
То есть российское государство (Министерство финансов во главе с С.Ю. Витте) даже не удосужилось поставить в известность о предполагаемых таможенных новшествах своих верных слуг – отечественных текстильных промышленников, считавших это правительство своим.
Смысл этого события видится в следующем: купеческий клан стал для власти своего рода разменной монетой в обеспечении общеполитического равновесия, причем о готовившихся решениях его даже не потрудились проинформировать. Издевательскими казались на этом фоне возгласы петербургской прессы, что договор «представляет одно из главных дел нынешнего царствования, которое украсит собою летопись государственной деятельности С.Ю. Витте». [700] Можно сказать, что принятие русско-германского договора вызвало первую трещину во взаимоотношениях государства и московского промышленного клана. Остается добавить еще одно важное наблюдение: политическая опора купеческой группы, так называемая русская партия, претерпела серьезный разлад. Ведь выходец из ее рядов -Министр финансов С.Ю. Витте – впервые не посчитался с интересами противостоящих иностранной торговой экспансии народных капиталистов. А идейные сподвижники министра, наподобие влиятельного князя В.П. Мещерского, совестили текстильных королей России: «нельзя же, в самом деле, пожертвовать всем ради выгод известной группы людей, хотя бы и очень богатых»[701].