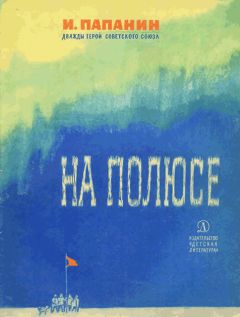Мачей Кучиньский - ЗАГАДКА ФЕСТСКОГО ДИСКА И ЗМЕЕПОКЛОННИКИ
Возможные возражения, думал я, относительно правомерности сравнения столь массивного, мертвого, безжизненного объекта, как гора, с таким живым, теплым и подвижным телом организма. Однако следует помнить, что Мезоамерика была страной вулканов, многие местности Мексики ну прямо усеяны вулканическими конусами; уже не говоря о самых больших, всемирно известных вулканах, таких как Попокатепетль или Оризаба, надо помнить о тысячах меньших, даже ста- или двухсотметровых…
В 1943 году в селе Парикутин, в горной долине, после резкого толчка разверзлась щель и из нее вырвались клубы дыма. В течение первых суток пепел, песок и камни насыпали конус высотой в семь метров. Потом потекла лава.
Вулкан замер спустя девять лет, достигнув высоты в семьсот метров.
Если в Древней Мексике видели – а такие случаи можно считать несомненными, – как вулканы вырастают буквально на глазах у тысяч людей, то это могло, думал я, ассоциироваться в сознании с процессом роста тела. Ведь тело – носитель жизненных процессов, а увеличение его размеров происходит благодаря каким-то невидимым в нем внутренним действиям.
Я понимал, что можно отыскать уйму таких примеров – столько их было на всех раскрашенных страницах кодексов. Например, гора из кодекса Ботурини, описываемая как символ "пещеры, из которой мы происходим", или другая, известная по Хроникам из Куаукечоллана, в виде туловища орла. Я помнил, что орел был у мексиканцев носителем двойной спирали, а также клетки (см. фото 7), так что у меня были основания путем своеобразной интерполяции считать эту "гору" тоже живой – организмом.
Но неужели создатели этой пиктограммы считали человека колонией клеток? Неужели они думали, что именно клетки, а не хромосомы или гены были истинным объектом творения, его целью и причиной? Пупом жизни? Мы – ходячие города клеток?…
Мне пришло в голову, что миштекские мудрецы развенчали человека. Да что там – развенчали! Они сбросили его со всех пьедесталов, отказав в славе, исключительности и привилегированном положении меж всех творений великой природы. Даже его ум низведен до сравнения со сновидениями:
"Все – только сон,
никто не говорит здесь правды… "
Если же где-нибудь в кодексах какой-нибудь князь 8-Олень или княжна З-Кремень кем-то прославлялись, то этому они были обязаны не лично себе, а орлам, ягуарам, змеям и лентам, неким скрученным объектам и разноцветным полоскам. Стало быть, кодексы по их значимости для рода человеческого могли выполнять такую же историческую роль, какую в отношении Солнечной системы, а особенно – Земли, сыграл в Европе труд Коперника, отобравший у нашей планеты статус центра, пупа Вселенной.
Точно так же кодексы трактовали и человека, но с той единственной разницей, что если труд Коперника для его современников стал бы верстовым столбом истории науки, поворотом, переломом в мышлении, то рисованные тексты миштеков фиксировали истины, до них давно и хорошо известные посвященным этой земли, ну а простому люду выдавалось кое-что по мере потребностей, в силу "текущего момента"…
Такое прочтение кодексов только для меня могло быть потрясением, откровением: человек, разделанный на кусочки, человек-маска, человек, не являющийся самим собою…
Для читателя XX века – и не только в силу специальности посвященного в новейшие достижения естественных наук, а хотя бы просто знакомого с книгами генетика Дж. Монода "Неизбежность и случайность", зоолога Десмонда Морриса "Нагая обезьяна", биолога Р. Доукинса "Эгоистичный ген" или физика Ф. Капры "Дао физики" и уже поэтому одному думающего, что сенсаций Дарвина отнюдь не достаточно для описания места человека в природе, – тем не менее должно было стать поразительным открытием то, что он, современник многих открытий, еще только проникает в те сферы, в которых уже тысячу лет назад свободно ориентировались индейские ученые, сообщая о них в своих рисованных книгах…
Не было, как мне казалось, даже и нужды доказывать, что их видение человека, отраженное в кодексах, было близким, а по своей последовательности даже опережало самые смелые взгляды передового поколения современных биологов. Человек был для них динамическим явлениям, процессом, происходящим в пространстве и времени. В этом непрекращающемся процессе развития, роста, изменения, разложения он был результирующей разнообразнейших воздействий.
Именно в связи с таким особым видением его – человека – рисовали не в привычной, обыкновенной манере, а изобразительным языком, наподобие мозаики, собранной из знаков, символов, передающих особенности всех тех процессов, которые творят тела и сознание.
Среди этих поразительных изображений я искал ту пиктограмму, которая бы выражала наиболее обобщенную истину, являла бы собою какое-то элементарное, но основополагающее значение, сжато и точно определяющее человека. Я поочередно обращался к клеткам, хромосомам, генам, пока наконец не понял, что иду не тем путем. Человек миштеков не был колонией клеток- во всяком случае, не только ею. Правда, тело считалось горой клеток, но это было слишком упрощенное объяснение, и такой концепции недоставало широты, чтобы вместить в себя все то, что кодексы связывали с человеком. По той же причине и то, что тело древние мексиканцы представляли в виде скопища или храма хромосом, можно было считать лишь еще одним относительным приближением к ясности.
Убежден, что миштекские жрецы очень легко показали бы относительную ценность модели Доукинса с ее человеком как "машиной для существования генов", и вовсе ограниченной представилась бы им модель "нагой обезьяны" Морриса…
Я открыл суть концепции миштеков, нашел ключ к ней далеко от их собственной земли, и этим ключом была
ДРАГОЦЕННАЯ ВОДА.
Чичен-Ица лежала в центре раскаленной плиты Юкатана. Словно недостаточно было жара, льющегося с неба, кто-то еще поджег – а может, она загорелась сама – низкую, плотную, игольчатую сельву по сторонам шоссе. Километр за километром я ехал, овеваемый дымом, грязно-голубым или рыжим, вдыхая его горький запах. Порой обзор сокращался до нескольких метров – тогда я тормозил: дым, казалось, прилипал к шоссе, сплавлялся с мягким асфальтом, а я дышал взвесью копоти. Пепел истлевших листьев сыпался, касаясь рук и лица. Невидимые языки пламени источали потоки дрожащего жара. Я закрывал окно, но спустя минуту поспешно вновь отворял его.
Пожар вскрывал скалы. Белые известняковые чешуйки лежали у их оснований. Гигантская плита прикрывала"весь безводный полуостров. Воду поглотил известняк, вернее, она растворяла эти камни и пробуравливала сеть подземных проходов, чтобы спрятаться в них. Любой дождь, даже самый обильный, в разгар сезона дождей, по тысячам щелей проникал в глубь известняка И скрытыми каналами стекал в море. Только иногда обвалившиеся кровли туннелей или размытые расщелины раскрывали в двадцати – тридцати метрах ниже черный, как ночь, поток. Там была страна Тлалока, хозяина вод разместившегося там мира, дарителя жизненной влаги; там скрывался он, в пещерах подземелий.
Я уехал именно на Юкатан и прежде всего к нему. В его святилища, укрытые под землей индейцами майя, так отличающиеся от храмов остальных богов. По пути – Чичен-Ица, знаменитые, особенно посещаемые руины. С ними я не связывал больших надежд. Уже на фотографиях я изучил каждый квадратный метр их стен. Прекрасно знакомая символика по сути, повторяла, хоть и условно, стилистически иначе, сущность сообщений "народов науатль.
Змеи, Древа Жизни; ленты, сплетенные шнуры… Большинство из них композиционно больше похожи на аллегории, свод священных символов, нежели на записи, которые могли бы помочь открыть что-то новое…
Несколько домов у шоссе, торговцы сувенирами и напитками, современный отель под пальмами; другой, старый, вроде колониальной резиденции в большом саду; ряды автобусов. Над их крышами по одну сторону шоссе вздымалась пирамида с храмом на вершине, по другую, в просвете между деревьями, знаменитый Каракол-Улитка, храм, своей круговой проекцией – необычной для майя – свидетельствующий о том, что его создали тольтеки, точнее, только тольтекские строители.
Купив билет, я пошел туда, где, как мне казалось, будет меньше народу. Люди толпились на пирамиде и между высокими стенами арены для игры в каучуковый мяч. Я пошел напрямик по просторной площади к дорожке, ведущей через кусты к священному колодцу – сеноту. Все еще думая о Тлалоке, я хотел увидеть это творение природы, некогда почитаемое на территории всей Мезоамерики. Доказано, что к этому священному месту стекались с дарами пилигримы из самых отдаленных земель. А привлекали их вовсе не пирамиды, арены и храмы, возведенные людьми, а именно то, что создала сама природа.