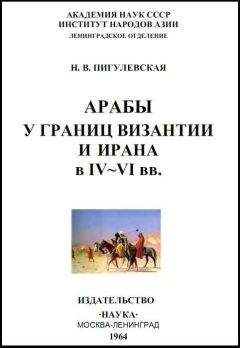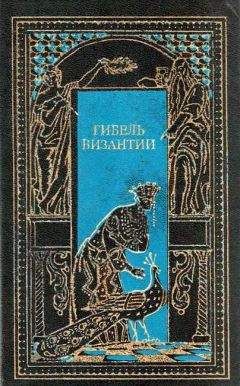Н. Пруцков - Древнерусская литература. Литература XVIII века
Но там, где Афанасий Никитин опирался не на рассказы своих собеседников, а на собственные наблюдения, взгляд его оказывался достаточно верным и трезвым. В «Хожении за три моря» нет и следа характерного для популярного на Руси «Сказания об Индийском царстве» идеализированного изображения Индийского царства, где все счастливы и «нет ни татя, ни разбойника, ни завидлива человека».[388] Индия, увиденная Никитиным, — страна далекая, с жарким климатом, но по устройству своему такая же, как и все земли: «А все наги да босы… А земля людна вельми, а сельскыя люди голы вельми, а бояре сильны добре и пышны вельми» (с. 14, 17). Он ясно понял разницу между завоевателями «бесерменами» и основным населением — «гундустанцами». Заметил он и то, что мусульманский хан «ездит на людях», хотя «слонов у него и коний много добрых», и то, что «бояре все хоросанци, а гундустанци все пешеходы» (с. 14, 16, 36). Бесправный «гарип» (чужестранец), Никитин сообщил «индеянам», что он «не бесерменин»; он не без гордости отметил, что «индеяне», тщательно скрывавшие свою повседневную жизнь от мусульман («а посмотрел бесерменин на еству, и он не яст»), от него, Афанасия, не стали «крыти ни в чем, ни о естве, ни о торговле, ни о маназу, ни о иных вещех, ни жон своих не учали крыти» (с. 18, 19).
Однако, несмотря на добрые отношения с «индеянами», отрыв от родной земли воспринимался тверским путешественником очень болезненно. Любовь к родине не заслоняла для него очень острых воспоминаний о несправедливостях в родной земле, но и эти несправедливости не стирали памяти о родине: «Русская земля да будет богом хранима!.. На этом свете нет страны, подобной ей, хотя вельможи [бегъляри — „бояре“] Русской земли несправедливы. Да станет Русская земля устроенной, и да будет в ней справедливость» (с. 25, 45, 85) (все эти слова написаны по-тюркски — очевидно, Никитин считал, что, если его рассуждения о «несправедливости» в Русской земле будут прочтены на родине, они окажутся небезопасными). Афанасий бранит «псов бесермен», толкнувших его на это путешествие, жалуется на трудность жизни в Индии: «А жити в Гундустане, ино вся собина исхарчити, занеже у них все дорого: один есми человек, ино по полутретья алтына харчю идеть на день, а вина есми не пивал» (с. 37). Иногда хандра Афанасия порождала у него совсем мизантропические отзывы об Индии: «А все черные люди, а все злодеи, а женки все бляди, да ведьмы, да тать, да ложь, да зелие, осподарев морят зелием». Угнетала Никитина и невозможность соблюдения на чужбине православных обрядов, тесно связанных для него с привычным бытом: «Ино братья русьстии християне, кто хочеть поити в Ындейскую землю, и ты остави веру свою на Руси, да въскликнув Махмета, да поиди в Гундустаньскую землю», — горько шутит он (с. 15, 37). Удручали Никитина не только прямые попытки обратить его в мусульманство, но и невозможность соблюдать обычаи родины на чужбине: «А со мною нет ничево, никакоя книгы, а книгы есмя взяли с собою с Руси, ино коли мя пограбили, ини их взяли, и яз позабыл веры хрестьянскыя вся и праздников хрестианьских» (с. 20, 41). Особенно выразительны те «помышления», в которые впал Никитин после того, как один из его «бесерменских» собеседников сказал ему, что он не кажется «бесерменином», но не знает и христианства: «Аз же в многыя помышления впадох и рекох в себе: горе мне окаянному, яко от пути истиннаго заблудихся и пути не знаю уже, камо пойду. Господи Боже вседержителю, творець небу и земли! Не отврати лица от рабища твоего, яко в скорби есмь… Господи мой, олло перводигерь, олло ты, карим олло, рагим олло, карим олло, рагимелло» (с. 44). Последние связи с родимой землей обрываются: начав с обращения к христианскому богу, Никитин (может быть, незаметно для самого себя) переходит на мусульманскую молитву. Чужеземная речь, которая окружала Никитина, грозила вытеснить его родной язык; даже кончается его «Хожение» арабской мусульманской молитвой.
Непосредственность рассказа Никитина, обилие конкретных деталей, делающих его повествование зримым и убедительным, не только сближают «Хожение» с теми «картинками из жизни», которые мы встречали в неофициальных летописных сводах. Написанные для себя, записи Никитина представляют собой один из наиболее «личных» памятников Древней Руси: мы знаем Афанасия Никитина, представляем себе его индивидуальность несравненно лучше, чем индивидуальность большинства русских писателей с древнейших времен до XVII в. Автобиографичность и лиричность «Хожения за три моря», передающего душевные переживания и настроения автора, были новыми чертами в древнерусской литературе, характерными именно для XV в. Эти черты обнаруживались, в частности, в произведениях агиографического жанра.[389]
3. Агиография
Жития второй половины XV в. могут быть отделены от житий предшествующего периода лишь условно; деятельность одного из наиболее выдающихся представителей епифаньевской агиографической школы — Пахомия Логофета — в значительной степени относилась ко второй половине века. Однако для агиографии интересующего нас здесь периода характерны все-таки некоторые новые черты, существенно отличающие ее от житийной литературы предшествующего времени.
Хорошо разработанной стилистической системе Епифания и Пахомия противостоят в агиографии второй половины XV в., с одной стороны, «неукрашенные» описания жизни святых, рассматривавшиеся, по-видимому, как материал для последующей литературной обработки, а с другой стороны — жития-легенды, основанные на фольклоре и обладающие хорошо разработанными, но не традиционно-агиографическими сюжетами.
Записка Иннокентия о последних днях Пафнутия Боровского. К «неукрашенным» житиям первого типа принадлежит прежде всего составленная в 1477–1478 гг. записка о последних днях крупнейшего церковного деятеля XV в., основателя и игумена Боровского монастыря Пафнутия. Автор этой записки — «келейник (сожитель по келии и прислужник) игумена Пафнутия Боровского Иннокентий, человек, не занимавший сколько-нибудь видного места в управлении монастыря. Характеризуя самого себя как „невежду и грубого“, Иннокентий видел свою задачу именно в том, чтобы как можно точнее и детальнее описать последние дни и записать предсмертные речи „святаго и великаго отца нашего Пафнутия“. И именно благодаря отсутствию всякой „украшенности“ и риторики этому безвестному монаху удалось создать необыкновенно выразительный образ больного старика, еще недавно возглавлявшего огромное монастырское хозяйство и наконец уставшего от всей этой суеты и жаждущего покоя. Заботы еще не совсем оставили Пафнутия — перед самой смертью он объясняет Иннокентию, как устроить в монастыре запруду через „поток водный“, высказывается о междукняжеских ссорах, но он уже чувствует, что его ждет „ино дело… неотложно“: разрушение „соуза“ души и тела. „Ни так, ни сяк, видиши, брате, сам, боле не могу… А выше силы ничто не ощущаю от болезни“, — просто отвечает на вопрос о своем здоровье. Но к нему все еще идут с делами — от старцев монастыря, от удельного князя, от самого Ивана III. Возникает вопрос о преемнике Пафнутия (им стал потом Иосиф Санин, будущий „обличитель“ еретиков Иосиф Волоцкий), о том, кому оставить игуменство. „Пречистой!“ — лаконично отвечает Пафнутий. С представителями светских властей больной старец вообще не хочет объясняться, но испуганный Иннокентий не решается отослать столь высокопоставленных посетителей и вновь напоминает Пафнутию о них. „Что тебе на мысли?“ — досадливо и совсем не смиренно отвечает Иннокентию Пафнутий. „Не даси же мне от мира сего ни на един час отдохнути! Не веси [не знаешь ли] — 60 лет угажено [угождалось] миру и мирским человеком, князем и бояром… Ныне познах: никая ми от всего того полза“.[390]
Перед нами — поразительный «человеческий документ», «литературное чудо XV века», по справедливому замечанию исследователя.[391] Но «чудом» записка Иннокентия является лишь по своим высоким художественным достоинствам, а не по полной уединенности в древнерусской литературе. Свобода от норм литературного этикета, экспрессивность живой разговорной речи — все это сближает записку Иннокентия с другим произведением нетрадиционной «деловой» литературы XV в. — «Хожением за три моря» Афанасия Никитина; перед нами та самая «литература факта», на которой впоследствии вырастут такие великие памятники, порывающие с литературными канонами, как «Житие» Аввакума.
Житие Михаила Клопского. Как и записка о последних днях Пафнутия, новгородское «Житие Михаила Клопского» было написано в 70-х гг., но по своему характеру и происхождению оно существенно отличается от записки Иннокентия. Это отнюдь не запись очевидца, а развернутое агиографическое повествование о жизни и чудесах новгородского святого-юродивого, сочувствовавшего московским князьям (именно это обстоятельство способствовало сохранению Жития в общерусской письменности после присоединения Новгорода). Создатель Жития Михаила несомненно опирался на определенные литературные традиции, скорее фольклорные (или основанные на фольклоре), нежели агиографические.