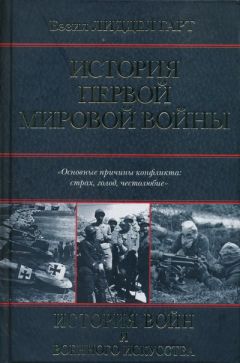Максим Оськин - Неизвестные трагедии Первой мировой. Пленные. Дезертиры. Беженцы
Соответственно, такое явление, как уклонение от боя, получило тенденцию к своему увеличению. В 1914 году это проявилось не столько в дезертирстве — самовольном бегстве с фронта, сколько в самострелах. Иными словами — в нанесении бойцами себе легких ранений, чтобы быть эвакуированными в тыл. Надежда на то, что удастся избежать фронта или на время (впредь до преодоления проблем снабжения), или вообще (если все-таки война закончится в обещанные сроки), преодолевала опасность наказания за такой поступок. Находившийся в 1914 году на Юго-Западном фронте М. М. Пришвин записывал в своем дневнике, что по установившейся терминологии самострелов называли «пальчики»: «От выстрела на близком расстоянии в ладонь получается звезда и… опаление. Фаланга пальца может быть отбита тоже только на близком расстоянии». «Не то страшно, что люди сами в себя стреляют, чтобы избежать неприятельской пули. А то страшно, что правда ли это? Вдруг это неправда — что тогда? А легенда о „пальчиках“, правда или неправда, все равно начинает жить, от нее не спрячешься, и невольно встречаешь каждого с повязанной рукой с унизительным для него недоверием и смотришь в глаза: герой он или преступник?» Количество самострелов в данный период было весьма велико. Например, в Львовский госпиталь в октябре ежедневно поступали по шестьсот таких «пальчиков» — несколько рот.[285]
К сожалению, «пальчики» были не легендой, а реальным фактом. Еще в период Русско-японской войны 1904–1905 гг., после сражения на реке Шахэ, в русской Маньчжурской армии, не умевшей по вине командования одержать победы и потому жаждавшей мира, широко распространились самострелы. Главный начальник тыла указывал: «В госпитали тыла поступило большое число нижних чинов с поранениями пальцев на руках. Из них с пораненными только указательными пальцами — 1200. Отсутствие указательного пальца на правой руке освобождает от военной службы. Поэтому а также принимая во внимание, что пальцы хорошо защищаются при стрельбе ружейной скобкой, есть основание предполагать умышленное членовредительство».[286] То есть массовый перелом в настроении становился причиной самострелов.
Пусть пока это еще была и капля в море, однако военные власти не могли проигнорировать обозначившуюся угрозу. Тем более что постепенно самострелы стали принимать участившийся характер, становясь массовым явлением Действующей армии. Эвакуация людей, самих себя ранивших, ставила комплект в войсках под угрозу. А ведь в это время речь шла о судьбе русской Польши — сначала австро-германцы пытались взять Варшаву, а глубокой осенью, в ноябре, намеревались уничтожить несколько армий Северо-Западного фронта в задуманном немцами «котле» под Лодзью.
Поэтому русская Ставка Верховного главнокомандования реагировала незамедлительно. В приказе от 16 октября 1914 года Верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, указывал: «На время настоящей войны добавить Воинский устав о наказаниях статьей 245/2 в следующей редакции: „За умышленное причинение себе непосредственно или через другое лицо, с целью уклонения от службы или от участия в боевых действиях, огнестрельных или иных ранений, повлекших за собой увечье или повреждение здоровья, виновный подвергается: а) в военное время лишению всех прав состояния и смертной казни или ссылке в каторжные работы от четырех до двадцати лет или без срока; б) в виду неприятеля — лишению всех прав состояния и смертной казни. Так же, наказаниям подвергается и тот, кто с намерением вышеуказанным способом изувечит другого или повредит ему здоровье, или окажет ему в том содействие“». Таким образом, спустя всего лишь три месяца после начала войны практически единственной санкцией за уклонение солдата от несения воинской обязанности стала смертная казнь.
В данном аспекте проблемы следует обратить внимание на тот факт, что самострелы вообще были распространены в первые полгода войны. Причем во всех воюющих армиях. Так, пик самострелов в австро-венгерских Вооруженных силах, по утверждению самих же австрийцев, также пришелся на осень 1914 года. По мнению военных австрийских историков, участников войны, этот факт может быть объяснен «только сильным моральным напряжением, испытывавшимся в эту кампанию».[287] То есть самострелы начала войны имеют под собой основу не поведенческого плана. А следовательно, не реакцию на внешние события со стороны отдельно взятого человека (как, к примеру, трусость или революционный протест), а общее напряжение, вызванное невиданным размахом военных действий.
Никто в июле 1914 года не мог предположить, что Большая Европейская война окажется затяжной, будет вестись фактически без перерыва между операциями, характеризуется громадными человеческими потерями без видимых результатов. За четыре месяца войны, к ноябрю месяцу, еще ничего не было решено — с одной стороны, русский Юго-Западный фронт штурмовал Карпаты и Краков, с другой — немцы удержали русский Северо-Западный фронт в Восточной Пруссии и на линии Средней Вислы, в русской Польше. Сотни тысяч потерь, положенных за это время, не привели к однозначному результату, за которым бы маячил призрак близкого окончания конфликта и возвращения людей к мирному труду.
В то же время маневренный характер войны вынуждал солдат ежедневно нести тяжелую боевую работу, переносить те тяготы, что отсутствовали в обычной мирной жизни. Эти люди в большинстве своем не были воинами по природе. Осенью 1914 года в Действующую армию стали поступать сотни тысяч запасных, давным-давно отвыкших от воинской службы, а война все не кончалась, несмотря на заверения предвоенного периода, и более того — не существовало никаких очевидно видимых предпосылок к ее близкому окончанию.
Сочетание непривычности военного труда (здесь — и сам бой, и подготовка к нему, и повседневный быт на фронте) с разочарованием в скором исходе конфликта стало причиной моральной дезориентации больших солдатских масс в происходящем. Неверное восприятие особенностей крестьянской психологии с современных позиций горожанина советского воспитания позволяет сейчас делать и такие утверждения: «Обвал морали войск привел к немыслимому в войнах первой половины XIX века дезертирству — почти полутора миллиона солдат; к пленению немцами 2 385 441 чел., австрийцами — 1 508 412 чел., турками — 19 795 чел. и даже „братушками“- болгарами — 2452 чел.».[288] Никакого «обвала морали» не было и быть не могло. Двести тысяч штыков даже в войне 1812 года (в начале) и три с половиной миллиона в 1914 году — это слишком разные цифры. Да и цифры пленных завышены, так как считают и «гражданских пленных». Как к ним относится «обвал морали войск»?
Само сравнение некорректно по существу. Войны первой половины девятнадцатого века велись профессионалами, взятыми в армию фактически навечно, и потенциальные дезертиры уничтожались еще на этапе отбора: «Трех рекрутов забей, но одного — выучи!» После рекрутчины солдата ничего с родным селом не связывало. Первая мировая война — это война народов, для русского крестьянина (93 % Вооруженных сил) не понятная потому, что лично ему она ничего не несла. Ни непосредственной выгоды (земли в Галиции не хватало и для собственного населения, а торговли сквозь Черноморские проливы сам крестьянин не вел), ни опасности семье (война велась вне русской территории, и семьи солдат находились в безопасности). Зато невыгоды войны — чрезмерные потери, неумение, неравенство в технике, продовольственный кризис в тылу — вот это крестьянином воспринималось как нечто «свое», «кровное», потому что напрямую затрагивало интересы его лично и его близких.
Что касается пленных, то было бы неплохо уточнить, что РККА в 1941–1945 гг. потеряла еще больше (5,7 млн против 2,5 млн), причем большую часть — в первые полгода войны, в то время как императорская армия — в кампании 1915 года. Почему же не провести параллели и не сказать о еще большем «обвале морали»? Да потому, что этого не было: люди дрались, пока была возможность. А что касается дезертирства, то также следовало бы уточнить, что львиную долю дезертиров дал революционный период 1917 года, когда война не просто представлялась бессмысленной, но фактически и провозглашалась таковой: мир без аннексий и контрибуций.
Представления о некоей особенной, отличной от мирной «морали» войск вообще свойственны профессиональным военнослужащим. Однако автоматический перенос психологии военного профессионала на обычного призывника в корне неверен. Например, кадровый офицер-эмигрант, и военный ученый А. А. Зайцов писал в 1954 году: «Пусть не говорят, что, раз солдат не хочет драться, никакая техника не поможет. Драться никакой солдат (кто служил в пехоте, особенно хорошо знает) вообще не хочет. Драться — приходится. И еще покойный генерал Н. Н. Головин всегда настаивал на том, что у бойца, снабженного более совершенным оружием, мораль, естественно, будет выше, чем у солдата, чувствующего свою техническую слабость. Совершенно отменные качества русского солдата, доказанные военной историей последних столетий, сдали в 1915 году и сказались еще в 1916-м, когда техническая слабость русской армии эту „мораль“ подорвала. Неслыханные в русской военной истории массовые сдачи в плен, достигшие почти 2,5 миллиона, только и можно приписать этому».[289] Даже Зайцов берет термин «мораль» в кавычки, понимая, что не все так просто. Давая цифру — два с половиной миллиона, надо было бы сказать, что это — все русские пленные, среди которых добровольно сдавшиеся составляют меньшую часть. Между тем в тексте цитаты трактовку можно преподнести по-разному. И жаль, что А. А. Зайцов не делает упора на качестве войск и характере войны, проведя сравнительный анализ. Например, сколько сдалось в плен французов в 1940 году? Или немцев — в 1945-м? Или австрийцев — в 1914–1916 гг.? Все познается в сравнении — эту истину нельзя забывать, делая тот или иной характерологический вывод.