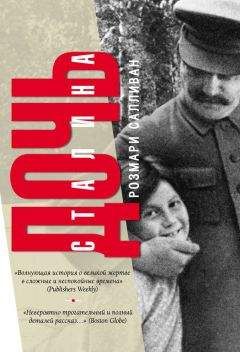Рафаэль Гругман - Смерть Сталина. Все версии. И ещё одна
«Так как у меня были хорошие отношения с Берией (выделено мной. — Р. Г.), я подошёл к нему после заседания и полусерьёзно, полушутя поздравил его. Он ответил: “Я не принимаю твоих поздравлений”. “Почему?” “Ты же не согласился, когда шёл вопрос о тебе и тебя прочили заместителем к Молотову. Так почему же я должен радоваться, что меня назначили заместителем к Ежову? Мне лучше было бы остаться в Грузии” (выделено мной. — Р. Г.). Не знаю, насколько искренне он это говорил. А когда Берия перешёл в НКВД, то первое время он не раз адресовался ко мне: “Что такое? Арестовываем всех людей подряд, уже многих видных деятелей пересажали, скоро сажать будет некого, надо кончать с этим”»[208] (выделено мной. — Р. Г.).
В воспоминаниях, относящихся к 1938 году, Хрущёв рассказывает, что Берия не только кулуарно высказывался против репрессий. В личном разговоре со Сталиным он не побоялся остановить его:
«При нас он Сталину ничего не говорил об осуждении репрессий, а по закоулкам часто рассуждал об этом. Он плохо говорил по-русски. Обычно так: «Очень, слюшай, очень много уничтожили кадров, что это будет, что это будет? Люди же боятся работать».
<…>
Сам Берия после этого пленума (речь идёт о пленуме ЦК осенью 1938 года. — Р. Г.) часто говорил, что с его приходом необоснованные репрессии были приостановлены: “Я один на один разговаривал с товарищем Сталиным и сказал: где же можно будет остановиться? Столько-то партийных, военных и хозяйственных работников уничтожено”»[209].
Весьма неожиданное признание! Хрущёв, который в 1953 году возненавидел Берию и говорил о его пагубной и зловещей роли, вдруг признался, что у него с Берией были хорошие отношения; Берия с неохотой занял пост наркома внутренних дел, сожалел о переезде в Москву и высказался против массовых арестов. А ведь прав был Никита Сергеевич!
В 1938 году Берия был единственным из высшего руководства страны, кто не побоялся высказаться отрицательно о репрессивной деятельности НКВД.
Кто ещё в 1938 году это себе позволил? Как ни хотел Хрущёв его очернить, мемуары свидетельствуют о смелости и благородстве Берии. Он заступался за опальных друзей (Маленкова и Молотова), неоднократно при жизни Сталина высказывался против репрессий, не побоялся высказать ему своё мнение, а в 1938-м и 1953-м начал свою деятельность в качестве наркома НКВД — министра МГБ с частичного освобождения политзаключённых. За это Хрущёва наградил его прозвищем — «демагог».
Странная, однако, вещь получается. При всём желании опорочить Берию, употребляя уничтожающие эпитеты (у Хрущёва: «злодей», «интриган», «коварный человек», «подал какую-то недружественную реплику», «подал враждебную реплику», «оборотистый организатор») ни Микоян, ни Хрущёв не привёл ни одного факта, свидетельствующего о его неприглядных человеческих качествах. Наоборот, называя Берию «коварным человеком», Хрущёв тут же признаётся, что тот ему нравился:
«После первой встречи с Берией я сблизился с ним. Мне Берия понравился: простой и остроумный человек. Поэтому на пленумах Центрального Комитета мы чаще всего сидели рядом, обмениваясь мнениями, а другой раз и зубоскалили в адрес ораторов. Берия так мне понравился, что в 1934 г., впервые отдыхая во время отпуска в Сочи, я поехал к нему в Грузию. <…> Воскресенье провёл у Берии на даче. <…> начало моего знакомства с этим коварным человеком носило мирный характер»[210].
В другой главе мемуаров он называет Берию умным, сообразительным человеком, именует близким другом (что, впрочем, не помешало Хрущёву его расстрелять — арест близких друзей у коммунистов, по-видимому, предательством не считался). Они ведь не мушкетёры какого-то там иноземного короля, и рыцарская клятва, которой гордятся немногие мужчины, имеющие право себя таковыми называть: «Один за всех и все за одного» — не про них сказана. У привыкших извиваться вместе с линией партии, негласные девиз и лозунг: «Каждый за себя».[211]
Продолжим выслушивать откровения Никиты Сергеевича:
«Когда я работал в Москве, то у меня сложились с Берией хорошие, дружеские отношения. Это был умный человек, очень сообразительный. Он быстро на всё реагировал и этим мне нравился. На пленумах ЦК партии мы сидели всегда рядом и перекидывались репликами по ходу обсуждения вопросов или о тех или других ораторах, как это всегда бывает между близкими товарищами».
Не скрывая, что Берия в меру своих возможностей стал тормозить репрессии, Хрущёв начал подыскивать объяснения, способные его опорочить. Он заговорил о личной выгоде (интересно, какой?), о поисках мнимой популярности, объясняя этим радужные надежды, появившиеся в стране после прихода Берии в руководство НКВД осенью 1938-го и в МВД весной 1953-го. Без вороха лжи рушится образ врага народа, на которого Хрущёв и его соратники свалили собственные преступления.
Никаких фактов, свидетельствующих против Берии, кроме обвинений в сексуальной распущенности, его недруги привести не смогли.
Зато о Сталине в воспоминаниях Микояна и Хрущёва негатива сколько угодно. Микоян рассказывает, что Сталин был трусом (ни разу в годы войны не выезжал в войска) и приводит эпизод, случившийся зимой 1941-го, когда, не доехав до фронта 60 километров, Сталин вышел из машины по малой нужде. Он поинтересовался у сопровождающих его генералов, может ли быть заминирована местность в кустах возле дороги. Те, естественно, безопасность не гарантировали. Тогда Верховный Главнокомандующий, не стесняясь многочисленного сопровождения, спустил брюки и на глазах солдат и офицеров опорожнил мочевой пузырь. Затем с чувством выполненного долга он сел в машину и дал команду возвращаться в Москву[212].
Хрущёв, ссылаясь на Берию, рассказывает о нервном срыве, случившемся со Сталиным в первые дни войны, когда только благодаря Берии, сохранившему самообладание, удалось организовать отпор немецко-фашистскому наступлению. Дабы избежать вольностей пересказа (о надуманных Волкогоновым диалогах мы уже говорили), я вынужден вновь прибегнуть к цитированию первоисточников.
«Когда началась война, у Сталина собрались члены Политбюро. Сталин морально был совершенно подавлен и сделал такое заявление: «Началась война, она развивается катастрофически. Ленин оставил нам пролетарское Советское государство, а мы его просрали». Буквально так и выразился. «Я, — говорит, — отказываюсь от руководства», — и ушёл. Ушёл, сел в машину и уехал на ближнюю дачу. «Мы, — рассказывал Берия, — остались. Что же делать дальше? После того как Сталин так себя показал, прошло какое-то время, посовещались мы с Молотовым, Кагановичем, Ворошиловым (хотя был ли там Ворошилов, не знаю, потому что в то время он находился в опале у Сталина из-за провала операции против Финляндии). Посовещались и решили поехать к Сталину, чтобы вернуть его к деятельности, использовать его имя и способности для организации обороны страны. Когда мы приехали к нему на дачу, то я (рассказывает Берия) по его лицу увидел, что Сталин очень испугался. Полагаю, Сталин подумал, не приехали ли мы арестовать его за то, что он отказался от своей роли и ничего не предпринимает для организации отпора немецкому нашествию? Тут мы стали его убеждать, что у нас огромная страна, что мы имеем возможность организоваться, мобилизовать промышленность и людей, призвать их к борьбе, одним словом, сделать всё, чтобы поднять народ против Гитлера. Сталин тут вроде бы немного пришёл в себя. Распределили мы, кто за что возьмётся по организации обороны, военной промышленности и прочего”»[213].
Свидетельства Хрущёва и Евгении Аллилуевой, вдовы старшего брата Надежды Павла Аллилуева (она утверждает, что когда в августе (!) она приехала на ближнюю дачу, то Сталин выглядел растерянным), опровергает Судоплатов:
«В разных книгах, в частности в мемуарах Хрущёва, говорится об охватившей Сталина панике в первые дни войны. Со своей стороны могу сказать, что я не наблюдал ничего подобного. Сталин не укрывался на своей даче. Опубликованные записи кремлёвского журнала посетителей показывают, что он регулярно принимал людей и непосредственно следил за ухудшавшейся с каждым днём ситуацией. С самого начала войны Сталин принимал у себя в Кремле Берию и Меркулова два или три раза в день»[214].
Историкам сложно установить истину, ведь одни свидетельства опровергаются абсолютно противоположными. Но общеизвестно, что первое после начала войны публичное выступление Сталина прозвучало лишь 3 июля.
Благодаря решительным действиям Берии (такую же решительность он проявил в день смерти Сталина, когда все остальные члены Политбюро были подавлены) в июне 1941-го из пяти человек — Сталина, Молотова, Ворошилова, Маленкова и Берии — был создан Государственный Комитет Обороны, которому на время войны передавалась вся полнота власти. Мобилизация тыла, создание в Сибири и на Урале, практически на пустом месте, мощной оборонной промышленности — заслуга Берии. В мае 1944-го он был назначен заместителем председателя ГКО, став вторым в стране после Сталина.