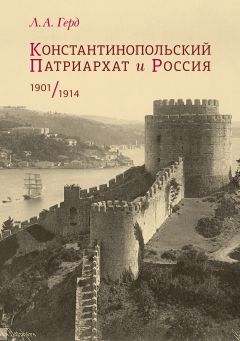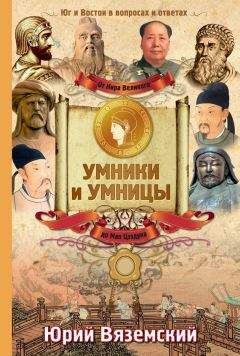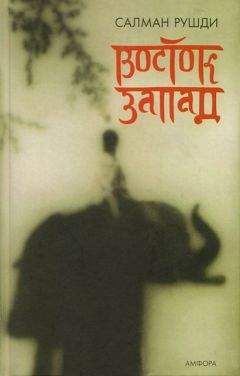Герд Кёнен - Между страхом и восхищением: «Российский комплекс» в сознании немцев, 1900-1945
Паке после возвращения из Москвы был желанным собеседником для Шейдемана и Эберта, Рицлера и Раушера, Зимонса и Шлезингера. И в разгар суматохи его ждет «нечаянная радость»: он встретил Прайса из Москвы{532}. Однако новая германская республика оказалась чуть ли не противоположностью того, что носилось перед его мысленным взором: «Странно, что сейчас Германским рейхом правит группа выпускников народных школ. Так, я опять вижу теперь Эберта, Шейдемана, Бааке, Давида, людей, с которыми встречался в Стокгольме весной 1917 г.»{533} Когда Кахен прочитал ему вслух «черновик большой речи Ранцау» перед Национальным собранием, Паке указал «на значение нынешней международной конференции социалистов в Берне, которая мне представляется более важной, чем Национальное собрание»{534}. Такую оценку, столь же иллюзорную, сколь и дерзкую, дал он, распрощавшись с веймарской сценой.
Почти на три недели Паке отправился в лекционное турне, чтобы проповедовать о «духе российской революции». Газета «Штутгартер тагеблатт» назвала его выступление в Штутгарте «событием», тогда как «всегерманская “Зюддойче цайтунг”… сочла меня зараженным болезнью большевизма»{535}. Сам он воспринимал «весь комплекс моих переживаний в великий военный и революционный период пребывания за границей… как своего рода божественный промысел» в действии. «На самом деле я весьма изменил свои взгляды, а пожалуй, скорее — углубил, многому научился. Это была несравненная эпоха»{536}.
И дальше под обаянием Радека
Среди этих дневниковых заметок повсюду рассеяны почти что интимные размышления и отстраненные — в романном стиле — наброски, героем которых является Карл Радек, его московский соратник и противник, о ком он постоянно думал и в ком неизменно видел грядущего деятеля германской и международной революции.
Сразу по прибытии во Франкфурт он вместе с женой, которая проанализировала почерк Радека с точки зрения графологии, написал «Психологические заметки о Радеке»: «Один из лучших знатоков германской партийной жизни. Сентиментальный и жестокий одновременно. Полон противоречий. Одержим властью. Склонен к неожиданным спонтанным поступкам. Дав обещание, не сдерживает его, но не злонамеренно, а потому, что нечто более важное вытесняет для него услужливость. Абсолютное отсутствие эстетического вкуса, никакого чувства формы, понимания ваз, картин. Однако любит стихи Гомера и Гёте. Отсутствие твердых знаний в области политэкономии, что компенсируется сильными, четкими политическими инстинктами: политически дальнозоркое зрение…» Радек воспринимает «крупные вещи мелкими, а мелкие — крупными». Но он всегда плывет «по течению событий». Сегодня он обосновывает одну политику, а если завтра будет проводиться другая, то будет защищать и ее{537}.
В первый день нового 1919 года Паке отметил ключевые слова для цикла рассказов, которые он собирался написать; среди них «Стокгольмская новелла», а также «Петербургский политический роман (Люди в черных кожанках)»{538}. Несколько недель спустя после похода в театр он ощутил сильное желание сочинить короткую пьесу на «рубленом языке» и тут же набросал план: «Три акта: Стокгольм, Москва, Берлин. Радек и я. Как журналисты, литераторы, политики, то же самое возвысить до самой значительной актуальности; в конце как враги — с пулеметами, — а в глубине души: друзья. Р. терпит поражение. В. подхватывает знамя». Запись сделана в конце января 1919 г. под впечатлением от убийства Либкнехта и Люксембург, в то время как повсюду шел розыск скрывавшегося Радека. Кто такой «В.» в наброске, из контекста неясно. Едва ли имеется в виду Боровский, скорее это литературное alter ego автора, что следует из самого наброска, как и из завершающего его резюме содержания: «Развитие человека, которого вначале было трудно постичь, но который является настоящим»{539}.
19 февраля, после повторного доклада в Штутгарте, к Паке обратились двое бывших руководителей германского солдатского совета в Минске. Речь зашла о «Радеке, который с 15 февраля сидит в Моабите». Оба «боялись, что его расстреляют, — в это мне трудно поверить». Сошлись во мнении об особенностях его характера — «солидный, дельный, хотя и с отклонениями, неуравновешенный и агрессивный» — и договорились «что-нибудь сделать для него»{540}. Сделал ли что-либо Паке для арестованного Радека (и что конкретно), не вполне ясно. В воспоминаниях Кахена имеется пассаж, намекающий на участие персон более высокого уровня. Там говорится, что Ранцау вызвал его (Кахена) к себе в конце февраля, поскольку арестованный Радек обратился в Министерство иностранных дел. «Разумеется, мое посещение его в тюрьме исключалось… С другой стороны, мне было рекомендовано попросить кого-нибудь, к кому он питал бы хоть какое-то доверие, поговорить с ним. Тогда я предложил пригласить в Берлин Паке, который… поскольку он поездил по России, кажется, был приемлем для тамошнего режима»{541}. Параллельно Радек написал 11 марта из тюрьмы длинное письмо Паке, которое тот 24 марта передал вместе с сопроводительным письмом министру иностранных дел Брокдорфу-Ранцау. Опираясь на свои московские впечатления, Паке считал Радека «человеком хотя и сангвинического темперамента, порывистым и бесцеремонным, но также личностью, наделенной необычайной политической силой и преследующей определенную европейскую цель». По словам Паке, он — один из тех людей, «которые встали поперек пути Англии» и в состоянии пробить широкую брешь в Россию для немецких рабочих и эмигрантов. Если же в будущем из-за «голодной блокады» и условий, налагаемых Версальским договором, начнется вынужденная массовая эмиграция немцев-пролетариев в Америку, то Радек — наилучший кандидат, чтобы «усилить то движение на Западе, которое направлено против олигархии, принявшей форму, опасную для свободы Старого Света»{542}. Это была скрытая попытка привлечь на свою сторону министра иностранных дел, колеблющегося между страхом перед революцией и желанием сопротивляться, вообще-то хорошо знавшего Радека по Копенгагену, — попытка настроить его положительно в отношении того вида германо-российского союза, в пользу которого Радек, в свою очередь, из тюремной камеры хотел настроить немецкую общественность.
«Дух российской революции»
Выпустив сборник своих докладов «Дух российской революции», опубликованный в виде книги в 1919 г., Паке предложил немецкой общественности образец интерпретации, которая самим характером содержавшегося в ней исторического пророчества прямо противоречила проекту Радека{543}.
Уже в самом начале Паке представлял себя как человека, познавшего истину, умудренного: «До начала мировой войны мне не приходило в голову поставить свои идеи о будущем в зависимость от идей, которые сегодня начертаны на знаменах международного пролетариата». Но в России ему стало ясно, «что таким образом революция, а не мир придет на смену войне»{544}. Факт, что идеи человечества вырастают в недрах народов: «Идея союза народов, идея советов, смысл социализма влекут к себе сердца, а поскольку западные формулировки столь слабы, то начинаешь серьезно искать восточные»{545}. К сожалению, это историческое движение еще составляет удел меньшинства. Пока еще «все зависит от немногих, которые должны нести бремя своей эпохи», — подобно тому человеку, что лишь недавно на вокзале в Москве, крепко пожав руку, отпустил его в Германию, а теперь сидит в Моабитской тюрьме, где на него, по ложному обвинению, возлагают ответственность за январский путч спартаковцев. Здесь Паке торжественно цитирует письмо, полученное из Моабита от Радека, которое он предпосылает своей книге как верительную грамоту.
Радек напоминал Паке: «…как я был прав, когда в Москве то и дело повторял Вам: гражданская война в Германии будет куда более ожесточенной и разрушительной, чем в России». Но никакая власть на земле не сможет воспрепятствовать победе революции. И тогда, наконец, германский и российский рабочий класс смогут объединиться. «Не для совместной войны против Антанты, как я еще допускал в октябре, ибо Антанта уже не в состоянии вести войну, а революции она не нужна». Объединение Советской России и Советской Германии, напротив, будет носить главным образом экономический характер. Тогда «после всех кровавых ужасов, пережитых нами», сможет начаться «эпоха творческих свершений»{546}.
Паке в принципе согласился с Радеком, однако полагал, что российская революция является резким предостережением от «неспособности обоих революционных лагерей, пролетариата и интеллектуалов, держать открытыми пути друг к другу». Ибо всякая революция должна быть «по существу духовной», чтобы кровь не лилась попусту. В сближении Германии и Советской России Паке видел веление времени. «Чтобы найти общее новое основание для совместной работы двух столь представительных государств, как германское и российское, я считаю, что ради сближения в разработанных коммунистических формах не нужно жалеть сил. Ибо только такие формы основаны на чувстве всеобщности, они представляются единственным, что исключает подозрение в социальном предательстве и возврате к старым капиталистически-империалистическим формам»{547}.