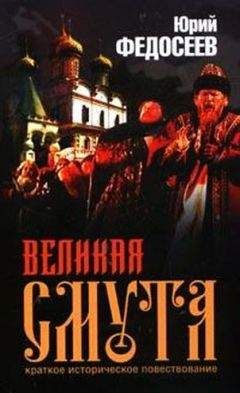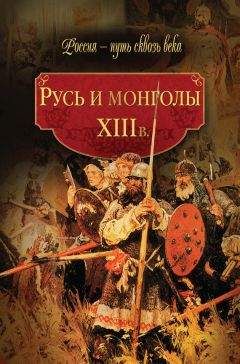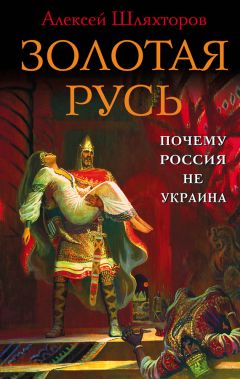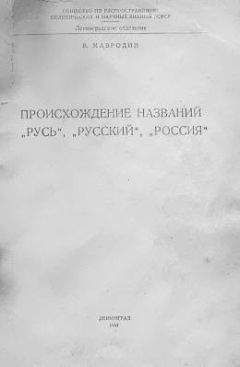Юрий Федосеев - Долетописная Русь. Русь доордынская. Русь и Золотая Орда
Первый митрополит, утвержденный на престол без согласия Константинополя, Феодосий (1461–1464 гг.) оставил кафедру, убедившись в своей несостоятельности поправить нравы безграмотных, а подчас и распутных церковнослужителей. Следующий за ним Филипп I (1464–1473 гг.), оказывая помощь Ивану III в решении задач по объединению русских земель вокруг Москвы, тем не менее проявлял некоторую самостоятельность, осмеливаясь предостерегать князя от излишней жестокости по отношению к жителям вновь приобретенных городов и сел. Однако дальше челобитья он не шел. Весьма выгодно выделяется на их фоне Геронтий (1473–1489 гг.), позволявший себе не просто спорить с великим князем и наказывать его любимчиков из числа служителей церкви, но и, выражаясь современным языком, шантажировать, оставляя престол и возвращаясь на него даже против воли великого князя. Но и он не был лишен предвзятости. Отрицательно относясь к Геннадию Новгородскому и Иосифу Волоколамскому, он в пику им достаточно терпимо относился к ереси жидовствующих, что в определенной степени явилось причиной того, что его преемником оказался Зосима (1489–1494 гг.) — чревоугодник и пьяница, тайный пособник и доброжелатель еретиков. Правда, потом его Собором иерархов Русской церкви отрешили от должности, тем не менее такой факт в истории Русской церкви имел место. Не оставил заметного следа в истории и следующий митрополит, Симон (1494–1511 гг.), если не считать его мягкого саботажа правительственного проекта секуляризации (изъятия) церковных земель да заступничества за брата, великого князя Семена, собиравшегося бежать в Литву, и князей Патрикеевых, обвиненных вместе с дьяком Курицыным в ереси жидовствующих. Симона сменил Варлаам (1511–1521 гг.), разделявший взгляды нестяжателей и их идеолога Вассиана Патрикеева, которому он поручил составление Кормчей книги (собрание церковных и светских правил). Бессребреничество Варлаама вызывало ненависть со стороны корыстных церковных иерархов, а его стремление сохранить за церковью хотя бы видимость самостоятельности от светской власти — недоброжелательность со стороны великого князя. Все это привело к вынужденному оставлению Варлаамом митрополичьего престола и переориентации Василия III на стяжателей, типичный представитель которых Даниил (1522–1539 гг.) оправдал все его ожидания. Выторговав неприкосновенность церковных земель, этот митрополит восстановил абсолютную лояльность церкви к великокняжеской власти, потакая ей во всем, вплоть до клятвопреступления. Зная, что Василий III для ликвидации последнего удельного княжества Московского государства не остановится перед тюремным заточением его владельца Василия Шемячича, Даниил выдал последнему от своего имени «охранную грамоту» и после его ареста палец о палец не ударил для смягчения участи узника и восстановления своей попранной чести. Безропотно сносил он вмешательство великого князя в чисто церковные дела и репрессии в отношении церковных иерархов (Вассиан Патрикеев, Максим Грек, Савва Грек, Федор Жареный). Вопреки православным правилам и обычаям, он благословил развод и повторный брак великого князя. А после смерти Василия Даниил продолжал преданно служить бесчестной Елене Глинской и ее алчному окружению.
Но вольное ли, невольное ли беззаконие митрополитов не означало, что вся церковь «колебалась» в соответствии с их пристрастиями. Православие, преодолевая ереси стригольников и жидовствующих, вмешательство светских властей, противоречия стяжателей и нестяжателей, споры кровожадных и умеренных ересеборцев, продолжало проникать вширь и вглубь народных масс. Открывались новые монастыри, умножалась монастырская братия, выверялись церковнослужебные книги, уточнялась редакция монастырских уставов. Иерархи и простые священнослужители были озабочены уже не столько борьбой с пережитками язычества, сколько искоренением ересей, обучением церковнослужителей, борьбой за смягчение нравов мирян, пресечением пьянства. И тон здесь задавали уже не митрополиты, а епископы, игумены, монахи. В историю Русской православной церкви как борцы с ересью жидовствующих вошли Геннадий Новгородский и Иосиф Волоцкий; как нестяжатели земных материальных благ — Нил Сорский, Вассиан Патрикеев и Максим Грек; как радетели за государство Российское — преподобные Трифон и Мартиниан, благословившие Василия Темного на борьбу с Шемякой (1447 г.), а также Вассиан Ростовский, изобличавший Ивана III в чрезмерной робости перед лицом Ахматова нашествия (1480 г.); как основатели монастырей, ставших центрами по изучению и толкованию Святого Писания, Апостольских посланий и Вселенских соборов, где бережно воспитывалось и сохранялось благочестие и человеколюбие, — Савватий, Герман и Зосима Соловецкие, Евфимий Корельский, Макарий Калязинский, Паисий Углицкий, Савва Крыпецкий, Александр Свирский, Корнелий Комельский, Кирилл Новоезерский и многие другие молитвенники за землю Русскую и народ православный.
С освобождением Северо-Восточной Руси от татаро-монгольского гнета роль православия в объединении русских земель вокруг Москвы стала доминирующей. История оставила нам свидетельства того, как тяготились православные люди под властью католических королей, как стремились они к воссоединению со своими единоверцами, даже несмотря на прежние обиды, перенесенные ими или их предками от московских князей. Во времена Ивана III и его сына Василия III на сторону Москвы вместе со своими наследственными вотчинами перешли князья Одоевские, Воротынские, Белевские, Перемышльские, Глинские, а также потомки убежденных врагов Калитинова дома — Симеон Можайский и Василий Шемякин. Несмотря на жесткие, а временами и жестокие методы Ивана III и его сына по распространению своего влияния на западные и северо-западные русские земли, православное население Новгорода и Пскова, Брянска и Чернигова, Смоленска и Вязьмы без сопротивления восприняло новые порядки, установленные московскими властями. К тому же не следует забывать и того, что русские люди с пониманием отнеслись к четырем русско-литовским войнам, инициированным Иваном III (в 1487 и 1501 гг.) и Василием III (в 1507 и 1512 гг.) по причине ущемления прав православного населения в Великом княжестве Литовском.
ОТ УДЕЛОВ К МЕСТНИЧЕСТВУ. В.О. Ключевский отмечал: «Удельный князь был крамольник если не по природе, то по положению: за него цеплялась всякая интрига, заплетавшаяся в сбродной придворной толпе. В Московском Кремле от него ежеминутно ждали смуты; всего более боялись его побега за границу, в Литву…» Эта оценка относилась как к братьям великого князя, так и другим удельным князьям. Отсюда шли взаимное недоверие и не всегда справедливые обвинения со стороны великого князя в измене со всеми вытекающими отсюда последствиями: тюрьма, монастырь, яд. Тех же князей, кому посчастливилось избежать этой жестокой участи, ждало положение полупленников под надзором своего же двора, своей свиты, укомплектованной преимущественно соглядатаями великого князя, и перевод на новые волости, где у них не было ни надежных друзей, ни верных слуг. Ну а в итоге, как нам известно, Иван III и его сын Василий III всеми правдами и неправдами ликвидировали и сам институт удельного княжения, утвердив единовластие великого князя и превратив удельных князей в своих холопов, хоть и владеющих значительными волостями и доходами.
В то же время великий князь не мог не считаться с обычаями предков иерархического построения рода. Древнее лествичное наследственное право стало основой для определения «кто есть кто?» в великокняжеском окружении. На верхней ступеньке элиты Московского государства стояли члены семьи великого князя, его братья и сыновья. Ступенькой ниже располагались потомки великих князей — тверских, рязанских, ярославских. За ними следовали потомки князей удельных, в том числе и литовских. Далее на иерархической лестнице размещались великокняжеские бояре и только потом — прежние владетельные князья, ранее состоявшие на службе у других, не московских, князей, и прочие бояре. В таком же порядке они занимали МЕСТА за столом великого князя, отчего иерархия эта получила название МЕСТНИЧЕСТВО.
Мы обозначили пока лишь один принцип определения старшинства: по происхождению, так называемый родословец. Но был и другой принцип, построенный на должностном положении бояр, к которым стали относиться и князья, принятые великим князем на службу. Дело в том, что все должности при московском дворе были четко ранжированы. Например, воеводы, участвовавшие в сражении либо в военном походе, по степени значимости располагались в следующем порядке. Первое место занимал первый воевода Большого полка, второе — первый воевода полка Правой руки, третье место — первые воеводы Передового и Сторожевого полков, четвертое — первый воевода полка Левой руки, пятое — второй воевода Большого полка и т. д. Аналогичное ранжирование было установлено и для гражданской службы. Все эти назначения где-то с 1475 года скрупулезно фиксировались в Разрядном приказе, и первое попадание в Разрядную книгу становилось точкой отсчета для определения иерархического положения конкретного боярина и его потомков. Если через какое-то время одни и те же лица вновь попадали в одну и ту же «команду», то дистанция между их должностями сохранялась. Нарушение этого порядка могло повлечь за собой бесконечные тяжбы по защите чести и достоинства.