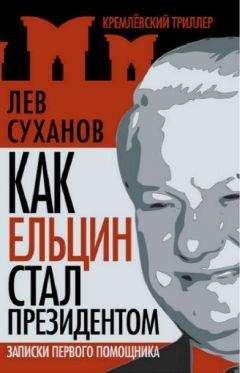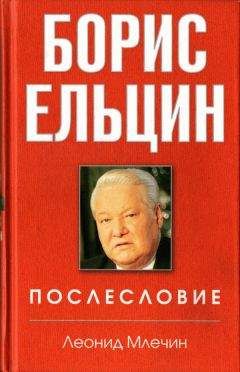Александр Костин - ЗАГОВОР ГОРБАЧЕВА И ЕЛЬЦИНА: КТО СТОЯЛ ЗА ХОЗЯЕВАМИ КРЕМЛЯ?
О таком плане, якобы существовавшем в головах горбачевских советников, слухи по цековским коридорам ходили еще до запрета КПСС. И вот они получили подтверждение. На 22-й странице своей «покаянной» книги «Горькая чаша» А. Н. Яковлев приводит такую надиктовку, относящуюся к декабрю 1985 года: «О партии. Практика, когда партия в мирное время руководит всем и вся, весьма зыбкая. Соревновательность в экономике, лучшая свобода и свобода выбора на деле, а не на словах, неизбежно придут в противоречие с моновластью. Но власть есть власть. От нее добровольно отказываются редко. Так и с КПСС, особенно учитывая ее «ордено-меченосный» характер. Надо упредить события. Возможно было бы разумным разделить партию на две части, дав организационный выход существующим разногласиям. Но это особая тема для тщательного и взвешенного обдумывания».
Чем не повод для подозрений в том, что в результате этого «тщательного и взвешенного обдумывания» именно Ельцину, склонному к резким и неожиданным шагам, и была отведена роль своеобразного тарана, призванного пробить первую брешь? Для раскола нужен был какой-то громкий политический скандал на самой верхотуре партийного руководства, ибо КПСС была жестко централизованной организацией, и потому ее разделение без инициирования сверху было бы невозможным.
В пользу сговора, как считают непримиримые противники Горбачева, говорит и то, как Ельцин сформулировал свое заявление об отставке:
— Видимо, у меня не получается в работе в составе Политбюро. По разным причинам. Видимо, и опыт, и другое, может быть, и отсутствие некоторой поддержки со стороны, особенно товарища Лигачева, я бы подчеркнул, привели меня к мысли, что я перед вами должен поставить вопрос об освобождении меня от должности, обязанностей кандидата в члены Политбюро. Соответствующее заявление я передал, а как будет в отношении первого секретаря городского комитета партии, это будет решать уже, видимо, пленум городского комитета партии.
— Что-то у нас получается новое, — сказал генсек, взяв в свои руки ведение пленума. — Может, речь идет об отделении московской парторганизации? Или товарищ Ельцин решил поставить на пленуме вопрос о своем выходе из состава Политбюро, а первым секретарем МГК КПСС решил остаться? Получается вроде желания побороться с ЦК. Я так понимаю, хотя, может, и обостряю.
Искатели тайного умысла, заключенного между строк, ликуют: Горбачев сгоряча проболтался и едва не выдал конспиративный план. Мол, новое, радикальное крыло партии предполагалось формировать на базе столичной парторганизации, где сильны демократические течения. Поэтому Ельцин и не поставил вопрос об уходе с должности секретаря горкома, заметив, что это дело горкома. Следовательно, был уверен, что горком не отпустит. Но Лигачев со своим орготделом смешал карты и расстроил тонкую игру, добившись в итоге того, что бюро Московского горкома одобрило решение пленума ЦК. Однако позиции сторонников Ельцина в бюро горкома были сильны: его хотели оставить на прежнем месте и призвали забрать заявление об отставке.
К числу аргументов, свидетельствующих о том, что дело нечисто, что выступление Ельцина не стало неожиданным для Горбачева, относят и подозрительно быстрое, и точное формулирование генсеком основных положений заявления Ельцина. Едва только оратор покинул трибуну, как Михаил Сергеевич молниеносно придал его довольно сумбурным словам концептуальную направленность. Без предварительного ознакомления, навскидку, такое невозможно, уверяют поднаторевшие в ведении заседаний враги Горбачева.
По протоколу все выступающие обычно сдавали тексты своих речей в секретариат — для сверки со стенограммой. У Ельцина написанного текста не было, хотя, как он признавался, свои выступления обычно готовил очень долго, текст переписывался иногда по 10 — 5 раз. В тот раз он поступил по-другому. «Мне даже сложно сейчас объяснить, почему», — напишет он в своей книге «Исповедь на заданную тему». И добавит: «Конечно, это был не экспромт», что вызовет многозначительные улыбки у догадливых читателей»[198].
Улыбки улыбками, однако вдумчивый читатель, в отличие от «догадливого», многое почерпнет в пользу версии «тайного сговора», внимательно проанализировав ряд других оговорок, допущенных Ельциным в своей «Исповеди…». Так, в очередной раз пережив ситуацию, связанную с его выступлением на Октябрьском пленуме, он вспоминает:
«Сказав все это, я сел. Сердце мое гремело, готово было вырваться из груди. Что будет дальше, я знал. Будет избиение, методичное, планомерное, почти с удовольствием и наслаждением.
Даже сейчас, уже столько времени прошло, а ржавый гвоздь в сердце сидит, я его не вытащил. Он торчит и кровоточит. Тут мне, наверное, даже самому себя сложно понять. Неужто я ждал другой реакции от нынешнего, в большинстве своем консервативного состава ЦК? Конечно, нет. Будущий сценарий был предельно ясен. Он готовился заранее, и, как я сейчас понял, независимо от моего выступления. Горбачев, так сказать, задаст тон, затем ринутся на трибуну обличители и станут обвинять меня в расколе единства, в амбициях, в политических интригах и т. д. Ярлыков будет так много, что хватит на целую оппозиционную партию. Жаждущих засвидетельствовать свое рвение в моральном уничтожении «заблудившегося коллеги по партии» окажется даже слишком много, и выступающих придется сдерживать»[199].
Оговорка вполне прозрачно намекает, что сценарий расправы он знал: «будущий сценарий был предельно ясен. Он готовился заранее…» Кто его готовил? Конечно же Горбачев совместно с Ельциным! Но спохватившись, понимая, что каждое его слово при анализе событий, свершившихся на Пленуме, станет предметом тщательного изучения, анализа и сопоставления с другими воспоминаниями, добавляет: «…и, как я сейчас понял, независимо от моего выступления». В другом месте своих воспоминаний Ельцин пишет:
«Октябрьский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС, о котором потом было столько разговоров, засекреченный, таинственный… Пленум, на котором я все-таки взял слово и выступил.
Потом часто сам себя спрашивал, а был ли возможен другой вариант, насколько жесткой была необходимость резко рвать, идти на конфликт, на скандал, на такие катастрофические изменения в собственной жизни? А что у меня существует реальный шанс не выдержать предстоящую экзекуцию, я отдавал себе в этом отчет. Итак, зачем мне это было надо?
По прошествии почти двух лет я могу совершенно определенно сказать, да, то мое выступление было необходимо, оно как бы закладывалось всей логикой последних событий. Все купались в восторгах и эйфории от перестройки и при этом не хотели видеть, что конкретных результатов нет, кроме некоторых сдвигов в вопросах гласности и демократизации. Вместо реального и критического анализа складывающейся ситуации, на Политбюро все громче и отчетливее звучали славословия в адрес Генерального секретаря. Мой конфликт с Лигачевым дошел также до своего логического предела. Для того, чтобы решать в Москве самые наболевшие вопросы, нужна была помощь всего Политбюро: столица — такой сложный конгломерат, в ней все так завязано и переплетено, что без общих усилий дело бы не сдвинулось. Но последнее время, наоборот, я все отчетливее ощущал активное нежелание помочь городу в решении назревших проблем.
Можно ли было в таких условиях работать дальше? Можно, но только для этого надо было стать другим — прекратить высказывать свою точку зрения, не замечать, как страна скатывается в пропасть, но при этом гордо восклицать, что партия, как и ее Генсек, — организатор, вдохновитель и — что там еще? — архитектор перестройки.
Кто бы знал, как меня выводят из себя эти лицемерные лозунги! Сначала партийно-бюрократический аппарат, прикрываясь партией, развалил страну, а теперь, когда уже деваться некуда, приходится в прогнившей системе что-то менять, они кричат — не тронь партию, она архитектор перестройки. Как же ее не трогать, если еще с детского сада всем известно, что все свои достижения мы должны связывать с ее именем?! Да и вообще, вдохновляющая и организующая ее роль записана в 6-й статье Конституции СССР. Так кто же виноват в том, что творится? Новая историческая общность — советский народ? Или все-таки тот, кто семьдесят лет организовывал и вдохновлял? Каждый день со всех сторон слышится заклинание партийных аппаратчиков — авторитет партии незыблем! Не позволим прикасаться к партии вашим грязным рукам!..
За два года после октябрьского Пленума ЦК общество прошло огромный путь, люди осознали свою роль — не винтиков, а личностей, началось народное наступление на партийных бюрократов, и те вынуждены судорожно и испуганно защищать свое более чем шаткое положение. А тогда, когда я понял, что надо выступать, в те времена позволялось критиковать лишь то, что не задевало основ и конкретных высоких фамилий. Генеральный секретарь — это был все равно что царь-батюшка, выражать хоть какие-то сомнения по поводу его действий было немыслимым партийным святотатством. Генсеком можно было только восхищаться, радоваться, что выпало счастье вместе с ним работать, трудиться, разрешалось слегка переживать, что такой скромный и не позволяет себя хвалить, ну, и так далее…