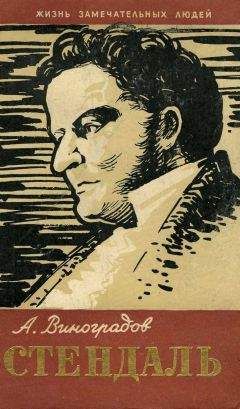Анатолий Виноградов - Осуждение Паганини
- Но это не то, - сказал немец. - Однако состояние во всяком случае очень серьезное. Кто вас лечил?
Паганини не мог ответить на этот вопрос. Обратились к Урбани. Урбани не было дома.
- Я могу вас вылечить, - сказал доктор и многозначительно взглянул на Гарриса.
Паганини вышел в соседнюю комнату. Доктор назвал колоссальную сумму денег, и Гаррис отказал ему. После ухода врача Гаррис уговорил Паганини начать лечение в Берлине.
Четвертого марта, забыв о лейпцигском приключении, забыв о нападках берлинских газет, возмущенных жадностью скрипача, не давшего ни одного концерта в Лейпциге, Паганини выступил в берлинском театре с концертом.
Этот концерт наделал много шуму. В Берлин приехал Шоттки. Он отправился к своему другу Людвигу Рельштабу, и они вдвоем подготовили ряд статей в "Vossisсhe Zeitung", настолько удачных, что первое выступление Паганини было полным триумфом. Даже Шпор удостоил концерт своим посещением и сидел в первом ряду, закусив губы.
Рельштаб писал, что Паганини осуществил невероятное, переступил грани возможностей, данных человека природой. Победа такого рода не обходится человеку даром. Скрипач производит впечатление существа нездешнего мира. Трудно понять, что это - ангел или демон воплотившийся в обыкновенную человеческую оболочку но только - эта оболочка носит отпечаток того невероятного, гигантского труда, который скрипач вложил в свое искусство. Следы страшного, мучительного утомления легли на лицо Паганини. Нет скрипача, похожего на Паганини хоть сколько-нибудь внешностью, и нет музыканта, который смог бы превратить деревяшку в тот одухотворенный инструмент, каким оказывается скрипка в руках этого гения. Этот автор "Колдуньи" сам является чародеем. Кто переступит те грани человеческого мира. которые переступил Паганини, те грани человеческого мира, которые казались навсегда узаконенными природой? И есть ли какая-нибудь мера для определения силы этого гения?
Об этом говорили стихи Карла Холтея, об этом кричали берлинские газеты.
Весеннее половодье уничтожило многие прусские села и деревни. Сотни тысяч людей были разорены. 6 и 24 апреля, при громадном стечении народа, состоялись концерты по невероятно вздутым ценам. Берлинская публика ответила на это взрывом негодования, но по-прежнему ломилась в зал. Перегородки и турникеты опрокидывались толпой. Газеты выли от негодования. Паганини называли Гарпагоном, отвратительным скрягой, алчным и ненавистным итальянским драконом.
Увеселитель берлинской публики, пародист и куплетист Сафир дважды обращался к Паганини с просьбой о предоставлении ему дарового билета, но так как он имел неосторожность сопровождать свою просьбу угрозой публично высмеять Паганини, если ему откажут, то Гаррис ему отказал, в силу категорического требования Паганини высоко держать знамя мужества и достоинства. И вот появилась заметка под названием: "Паганини, два талера и я". Сафир написал ядовитую статью на тему о жадности Паганини, где ставил себя в пример великому скрипачу.
"Мы оба, быть может, в одинаковой мере стараемся заслужить внимание берлинской публики. Паганини на одной "Saite", а я - на нескольких "Seiten"..." Увлекшись игрой слов "струна" и "страница", Сафир не догадался только об одном, - что сбор с обоих этих концертов, данных Паганини по высоким ценам, был, по приказанию концертанта, отдан Гаррисом в комитет по оказанию помощи жертвам наводнения.
Кассель, Франкфурт, большие и малые города Германского союза слышали Паганини.
Шпор писал в 1830 году:
"Паганини только что дал два концерта в кассельском театре. Я следил за его игрой на этих концертах с исключительным вниманием. Его левая рука работает с безукоризненной точностью и внушает мне чувство самого настоящего восхищения. Но в его композициях, в его стиле я обнаружил странную смесь явной гениальности с детской грубостью и безвкусицей, в силу чего общее впечатление от игры Паганини было для меня далеко не удовлетворительным.
Дважды мы присутствовали с ним на обедах в Вильгельмсхое, он показался мне человеком чрезвычайно веселым, общительным, острым на язык. Мы сидели с ним рядом".
В это же время в других германских газетах появилась заметка Гура, который писал, что "Паганини, этот отвратительный человек с невозможным характером, в высшей степени неприятен в общении. Надо думать, что его разрушенное здоровье является причиной его вечно дурного расположения духа".
Урбани с настойчивостью доверенного слуги, ревнующего господина к новому любимцу, настаивал на необходимости ехать в Париж. Гаррис принес вырезки из парижских газет: там уже есть портрет Паганини - обычный рассказ об убийствах, о скрипке, проигранной в карты, о тюремном заключении и о предводительстве шайкой итальянских бандитов. Один журналист сообщал, что Паганини находится в Париже инкогнито - "присматривается и принюхивается", но что ему, этому журналисту, удалось иметь беседу с Паганини. Приводится беседа с Паганини, портрет Паганини, портрет синьоры Бьянки и маленького Ахиллино. Портрет Паганини был обычным. установленным для этого рода газетным клише, но синьора Бьянки оказалась невероятной красавицей: для нее просто была взята какая-то старая итальянская гравюра, изображавшая Мадонну.
Что касается Ахиллино, то, очевидно, репортер воспользовался дагерротипом какого-нибудь циркового бульдога, вундеркинда с атлетическими мышцами и жесткими азиатскими скулами. "Рано ехать в Париж", - хотел сказать Паганини. Но у него ничего не получилось. Гаррис с тревогой взглянул на своего друга. Паганини сипел, шипел сдавленной гортанью. Нервно схватил пластинку из слоновой кости и написал карандашом: "Не еду в Париж".
Он взял монету со стола, это был старинный саксонский дукат. На одной стороне был изображен портрет Августа Саксонского с гербом, а на другой берег с пальмами и коленопреклоненный негр с гигантским блюдом сокровищ южных стран в высоко поднятых руках. Паганини написал на дощечке: "Если саксонский король шлепнется на пол, то негр укажет нам дорогу на восток. Если саксонский король откроет нам свое лицо, поедем на запад". Он высоко подбросил монету. Звонко ударился золотой дукат о каменный пол.
- Негр! - закричал Гаррис.
Утром стали собираться в Варшаву.
Глава XXV
ПИСЬМА И ПАССАЖИРЫ
Еще не было железных дорог. Наиболее организованное движение конной тягой было осуществлено господином Лаффитом во Франции. Не одну тысячу карет во все стороны рассылали его почтовые дворы, и одиннадцать миллионов франков чистого дохода получал ежегодно господин Лаффит. Старики Бонафус и Кальяр должны были уступить ему дорогу. Господин Лаффит имел банк в Париже. Отделения этого банка были в столицах европейских государств, в том числе и в Варшаве. Секретно скупая акции мессаджеров и эйльвагенов, господин Лаффит распространил свою агентуру от Парижа до самых границ Российской империи. Господин Лаффит был влиятельной персоной в Париже, и если бы не странное направление политики Карла X, то, конечно, господин Лаффит был бы членом правительства, более влиятельным, чем кто-либо из восседавших там дворян. Так по крайней мере рассуждали французские спутники Паганини, ехавшие с ним в большой почтовой карете по дороге на Калиш.
Паганини путешествовал опять в почтовой карете. Во Франкфурте-на-Майне остались Гаррис, Ахиллино и все движимое имущество великого скрипача.
В Варшаве предстояли важные концерты. Русский царь, раздавив своих врагов, расстреляв Сенатскую площадь, на которой собрались бунтующие офицеры и солдаты, ехал в Варшаву возложить на свою голову корону польского короля и, затаив ненависть в сердце, присягнуть польской конституции.
В Варшаве ожидались большие праздники, и вот Паганини решил именно там использовать несколько парадных вещей, написанных им в торжественном стиле. В их числе был английский гимн, переложенный им для скрипки, так как говорили, что этот гимн принят в России в качестве национального гимна.
...В той же карете ехали кожаные мешки с большими замками, с сургучными печатями и стальными цепями. Это была международная почта. В этом синем эйльвагене, направляющемся к русской границе, ехал скрипач Никколо Паганини, а наверху, на сетке, в кожаном мешке спокойно лежал толстый большой пакет из серой бумаги, адресованный к тому человеку, под надзор которого Паганини попадал в Варшаве. В пакете лежали листы,, исписанные красивым английским почерком:
"В Варшаву, ксендзу о. Ксаверию Коженевскому. Дорогой аббат, сообщаю Вам только то, что помню, и то, что недавно удалось услышать. Тороплюсь и поэтому пишу сбивчиво.
Мадемуазель Март вернулась в Париж только в тот момент, когда граф д'Артуа возложил на себя корону Франции в Реймсе и стал королем Карлом X. В тот день мадемуазель Март исполнилось восемьдесят девять лет. Она мало изменилась: превратившись из красивой когда-то женщины в маленькую старушку, она сохранила живость взгляда. Сросшиеся черные брови не поседели, глаза были по-прежнему круглы, огромны, черны и выразительны. У нее сохранился даже свежий цвет лица. Легкие морщинки появились только около глаз. Нос с горбинкой придавал ей еще большее сходство с миролюбивой домашней птицей. Она остановилась у двоюродной сестры в Малом Пикпюсе, но потом переехала в Тюильри и заняла комнату, принадлежавшую когда-то фрейлине - ее матери. Годы, проведенные в изгнании, нисколько не поколебали ее характера. Она отличалась всегда чрезвычайной добротой и кротостью. Ее набожность стала беспредельной.