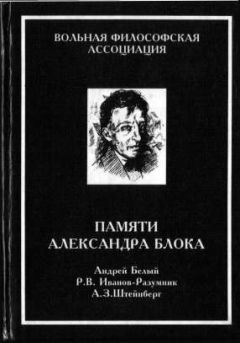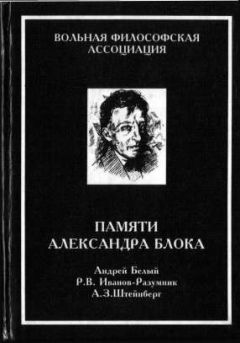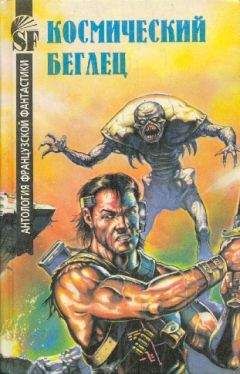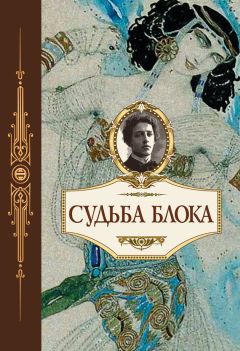Марк Блок - Характерные черты французской аграрной истории
Кроме того, это влияние осуществлялось неуклонно, и в случае надобности не только вне всякой законной формы, но и против всякой законности, особенно в областях открытых и длинных полей, где старые традиции и присущие им земельные распорядки способствовали сохранению общинной психологии, легко превращавшейся в тирана. Что общинные сервитута были обязаны своей основной силой могуществу общественного мнения, способного при случае заменить чисто моральное воздействие эффективным насилием, это мы уже знаем. Но, несомненно, самым знаменательным выражением этого поистине неукротимого духа единства сельских масс и их сопротивления является в новое время один обычай, присущий в основном пикардийским или фламандским равнинам (хотя подобные тенденции обнаруживаются и в других местах, особенно в Лотарингии), — это обычай, который был известен то под именем «права рынка» («право» — c точки зрения крестьян, правонарушение — в глазах закона), то под названиями, от которых веет духом борьбы: «злая воля» (mauvais gré) или «ненависть к аренде» (haine de cens, по-фламандски: haet van pacht){149}. Это было реваншем старых понятий постоянства и наследственности, некогда установивших основанную на обычае вечность держаний, за временную аренду, явившуюся результатом экономической эволюции. Крупный собственник может, конечно, стремиться увеличить свое имущество, заключая лишь временные договоры. Но горе ему, если по истечении срока договора он отказывается возобновить его с тем же самым арендатором на почти тех же условиях! В особенности горе новому арендатору, нарушителю (dépointeur), если таковой находится, — обычно это чужой в деревне человек, так как местные жители не хотят и не осмеливаются на это. Оба рискуют дорого заплатить за то, что крестьяне рассматривают как посягательство на свои права: бойкот, воровство, убийство, «железо и огонь» считаются вполне уместными для их наказания. Требования населения этих сельских местностей идут еще дальше: арендатор считает, что ему принадлежит право преимущественной покупки в случае продажи его участка сеньором; даже сельскохозяйственные рабочие — «жнецы, молотильщики, пастухи, лесные сторожа» — тоже считают себя несменяемыми и наследственными, особенно пастухи, которым удалось добиться при Людовике XV в Лаоннэ и в области Гиз «угрозами, насильственными действиями и убийствами» настоящей монополии для своего «рода». Королевские ордонансы с XVII века напрасно стараются искоренить эти привычки, которые, по словам одного официального отчета, превращают «земельную собственность» в пикардийских бальяжах Перонны, Мондидье, Руа и Сен-Кантена в «фиктивное» понятие. Упрямцев не останавливал даже страх перед галерами; в 1785 году интендант Амьена в предвидении нового эдикта осведомляется, будет ли в состоянии полиция его округа «предоставить необходимое количество кавалеристов для сдерживания толпы мятежников». Ни префекты, ни суды новой Франции не были, по-видимому, более удачливыми, нежели прежние интенданты и парламенты. Ибо право на договор, применявшееся, по преимуществу, в силу характерной традиции к некоторым крупным владениям, почти полностью совпадавшим с теми, которые при старом режиме принадлежали сеньорам или различным собирателям парцелл, существовало в течение всего XIX века и, несомненно, не совсем умерло еще и поныне.
* * *Но еще более тесную связь, чем тяготевшие над обрабатываемыми полями сервитуты, установило между членами группы, какому бы аграрному распорядку ни подчинялась ее территория, существование коллективно используемой земли. «Маленький приход Саси (Saci), — пишет в конце XVIII века Ретиф де ла Бретонн[129], — имея общинные угодья, управляется как одна большая семья»{150}.
Общинные угодья приносили самую разнообразную пользу. Будь то целина или лес, они обеспечивали скоту добавочное пастбище, без которого нельзя было обычно обойтись, несмотря на луга и выпас на землях, находящихся, под паром. Кроме того, лес давал дерево и множество других вещей, которые обычно ищут в тени деревьев. Болото давало торф и тростник, ланды — густой кустарник для подстилки, куски дерна, дрок или папоротник, служившие удобрением. Наконец, во многих областях общинные угодья выполняли функцию резерва пахотной земли, предназначенного для временной запашки. Вопрос возникает не о том, существовали ли общинные угодья, а о том, как регулировалось их юридическое положение в разные эпохи и в разных местах. Ибо без общинных угодий, особенно в отдаленные времена, когда земледелие было еще слабо индивидуализировано и когда тех продуктов, которые неспособно было дать мелкое хозяйство, вообще нельзя было нигде купить, аграрная жизнь была бы невозможна.
Эксплуатация этих ценных владений была иногда причиной объединения более обширных человеческих групп, чем одна деревня. Случалось, что обширная пустошь или лес — например лес Румар (Roumare) в Нормандии, — а еще чаще (высокогорные пастбища находились в безраздельном пользовании многих общин либо потому, что эти общины возникли при распадении более крупного коллектива, либо потому, что они, будучи вначале независимыми друг от друга, вынуждены были заключить союз в целях использования расположенной между ними территории. Таковы пиренейские «долины» (vallées) — конфедерации, скрепляющим элементом которых были пастбища. Чаще всего, однако, общинные угодья были достоянием одной деревни или деревушки, дополнением и продолжением пахотной земли.
С юридической точки зрения, идеальными общинными угодьями были бы те земли, вещное право на которые принадлежало бы только группе: по терминологии средневекового права это был бы аллод, которым жители владели бы сообща. В некоторых случаях такие коллективные аллоды действительно встречаются, но крайне редко{151}. Чаще всего на совместно эксплуатируемой земле, как и на всей территории округа, переплетались различные иерархические права: права самого сеньора и вышестоящих сеньоров и права корпорации жителей. Границы этих прав на общинные угодья в течение долгого времени были еще более неопределенными, чем на индивидуальные хозяйства. Они были установлены лишь в ходе ожесточенных судебных споров.
Борьба за общинные угодья была совершенно естественной. Она всегда разделяла сеньора и его подданных. Одна франкская юридическая формула IX века (составленная, правда, в алеманеком монастыре св. Галла; мы лишены подобных формул для Галлии лишь в силу чистой случайности) описывает нам тяжбу одного церковного учреждения с жителями по поводу пользования лесом[130]. Одной ив своих самых старых и самых постоянных обид, о которой крестьяне заявляли на протяжении веков во время своих восстаний, был захват общинной земли. «Они хотели, — пишет хронист Гильом Жюмьежский[131] о восставших около 1000 года нормандских крестьянах, — подчинить своим собственным законам пользование водами и лесами»; несколько позже поэт Уае выразил это в таких пламенных словах: «Нас много, так мы найдем защиту против рыцарей. Пойдем в леса рубить деревья и будем брать те из них, какие захотим. Возьмем в садках рыбу, а в лесах дичину; всем мы распорядимся по своей воле — лесами, водами и лугами». Убеждение, что трава, воды и невозделанная земля — словом, все, что не было обработано человеческими руками, не может быть присвоено человеком, ибо эти является правонарушением, отражало старую первоначальную истину, присущую общественному сознанию. Один шартрский монах оказал в XI веке о сеньоре, который вознамерился, вопреки обычаю, заставить платить монахов пастбищный побор: «Вопреки всякой справедливости, он отказывал в траве, которую бог приказал земле рождать для всех животных»{152}.
Однако, пока свободная земля имелась в изобилии, битва из-за целины или из-за леса была не столь ожесточенной. Следовательно, потребность уточнить юридическое положение общинных угодий ощущалась тогда лишь в незначительной степени. Чаще всего по отношению к пастбищу или лесу сеньор осуществлял такое же верховное вещное право, как по отношению к пашням — верховное, — но не обязательно высшее, — ибо, поскольку он в свою очередь являлся обычно вассалом другого барона и сам был связан оммажем, то над его собственными правами возвышались права всей феодальной иерархии. Но ограничимся непосредственно сеньором деревни, первым звеном этой вассальной цепи. Его власть над невозделанной землей выражается обычно в уплате повинностей, которыми обязаны (коллективно или индивидуально) жители, пользующиеся ею. Можно ли вследствие этого сказать, что общинные угодья принадлежали ему? Это было бы наверно, ибо крестьянские права пользования, которые, естественно, касаются и сеньора, поскольку он не только господин, но и хозяин, являются в своем роде столь же прочными правами. Разве они точно так же не санкционируются и не охраняются традицией? Разве сама территория, подчиненная общему пользованию, не называется обычно на средневековом языке столь энергичным словом — «обычаи» (coutumes) такой-то или такой-то деревни? Прекрасным выражением этого умонастроения являются тексты франкской эпохи, в которых при перечислении того, что принадлежит вилле, сплошь и рядом встречаются communia. Казалось бы, какой парадокс: перечислять общие земли среди имущества частного лица, которое совершенно свободно дарится, продается и Инфеодируется! Дело в том, что сеньория включает не только непосредственно обрабатываемый господином домен; она охватывает также пространства, на которые лишь распространяется его власть и с которых он требует положенных повинностей, — это держания (даже если они наследственны) и общинные угодья, подчиненные коллективным правам пользования, которые не менее уважаемы, чем личное владение держателя. «Общественные улицы и дороги, — записано около 1070 года в «Барселонских обычаях»[132], применявшихся и по эту сторону Пиренеев, в Руссильоне, — текучие воды и ключи, луга, пастбища, леса, ланды и скалы… — принадлежат сеньорам, но не для того, чтобы они владели ими в качестве аллода» (то есть не считаясь с правами других лиц, а только со своими) «или включали бы их в свой домен, Но для того, чтобы во всякое время отдавать их в пользование своим людям»{153}.