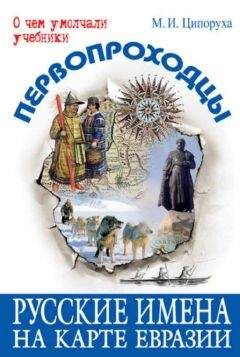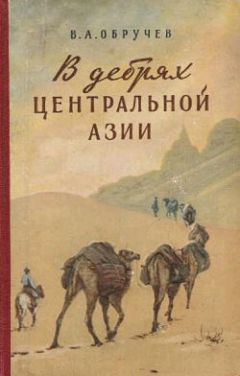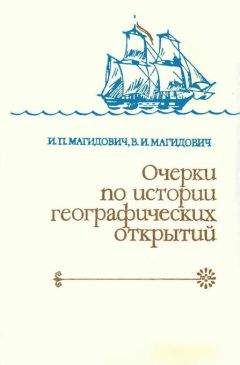Юрий Минералов - История русской литературы: 90-е годы XX века: учебное пособие
Речь о Федоре Ивановиче Тютчеве. Вот поэт, вот творчество, где внешне, кажется, все «давно известно», но стоит вглядеться, и что ни шаг, то парадокс, то загадка. Вот где есть чему учиться! Не «пересмеивать» его стихи, как захотелось сделать Т. Кибирову, а всерьез учиться.
Говоря о Тютчеве, часто вспоминали рассказанное третьим из Аксаковых – Иваном Сергеевичем, тютчевским зятем. Иван Аксаков подчеркивает, что поэт в жизни своей почти не говорил и почти ничего не писал по-русски. Так сложилась жизнь – галломания родителей, долгие годы за границей, две жены-немки, потом – аристократические салоны Петербурга, где опять-таки положенная по этикету галльская речь… Но зато стихи, указывает Аксаков, писались только по-русски (несколько альбомных французских экспромтов не в счет). Про это тютчеведы помнят. Только трактуется все связанное с тютчевским русским языком упрощенно (поэт-де «сберег» родную речь для поэзии).
В. Гумбольдт когда-то точно сказал, что язык есть первое произведение любого народа. Еще нет фольклора, нет литературы – словом, вообще нет того, что первоочередно ассоциируем мы со словом «культура»! – но уже есть язык. Язык – материализация народного духа, его глубинной сути. По языку можно постигнуть многое в характере народа, увидеть, к чему народ предрасположен (поэзия, предпринимательство, философия и др.). Мысли Гумбольдта совершенно верны. Но ведь то же самое можно отнести и к отдельной личности! Вообразите себе человека, который на данном языке делает одно-единственное: пишет стихи. Слово Ивану Аксакову: Тютчев, «по его собственному признанию, тверже выражал свою мысль по-французски, нежели по-русски, свои письма и статьи писал исключительно на французском языке и, конечно, на девять десятых более говорил в своей жизни по-французски, чем по-русски» (здесь и далее цитируется аксаковская «Биография Федора Ивановича Тютчева» по московскому изданию 1886 года).
И об этом не забудем: «Тютчев обладал способностью читать с поразительной быстротою, удерживая прочитанное в памяти до малейших подробностей, а потому начитанность его была изумительна» (И. Аксаков). Итак, жизнь оберегала его могучую память от засорения всяким бытоговорением, зато русская поэзия вся эту память насквозь пропитала. И вот у такого человека весь его «личный» русский язык абсолютно, без остатка растворяется в одном лишь роде «говорения» – поэтическом.
Таким образом, пускай с поправкой на аксаковскую «десятую», но надлежит прямо и твердо сказать: парадокс это или не парадокс, диковинно это или не диковинно, только поэзия Тютчева есть его русский язык, а язык Тютчева есть его поэзия. Если первейшее творческое деяние каждого народа и каждого отдельно взятого человека (с его детства) – пробуждение в глубинах своего «я» родного языка, то в своеобразной личности и своеобразной биографии Тютчева закон этот преломился так. Полностью уйдя в поэтическое «говорение», Тютчев на протяжении жизни продолжал свое личное языкотворчество не просто для поэзии, а в качестве поэзии.
Записывая новые стихотворения, Тютчев, по сути, закреплял на бумаге фрагменты того непрерывно движущегося, клубящегося и протекающего в его душе «меж черновиком и беловиком» незавершимого и недостижимого, как гегелевская «абсолютная идея», поэтического Произведения, в которое превратились его русская грамматика, его лексика, его синтаксис. Другие фрагменты так и не «закрепил» – не записал. Несомненно, что родной язык в тютчевской душе жил не так и не для того, как и для чего он бытует в любом из нас, принужденных по причинам объективным повседневно разменивать родной язык на пустяки. Эта неотменимая и неумолимая объективность приводит к печальным результатам: все мы в какой-то мере «глухи», у всех ослаблено знание «лица языка», его целостного облика, а раздутые мелочи, частности для нас порой на первом месте. Что говорить! В своем однобоком и плоскостном «знании языка» люди нередко за деревьями не видят леса.
Тютчеву, бывало, востроглазые критики указывали на «странности» языка в его стихах и, упирая на многолетний отрыв поэта от родной почвы, стыдили за разлад с русской грамматикой. (Даже Иван Аксаков защищает Тютчева от подобных критиков с дипломатическими оговорками.) Между тем Тютчев явил своему народу впервые (либо восстановил) или не замеченные ранее русскими поэтами, или забытые способы художественно-речевой смыслопередачи… Рекомые «странности» – просто разрозненные, чуть проступившие вовне следы тютчевских раскопок в смысловом потенциале родного языка. Безусловно, после «постмодернизма» поэты смогут многое открыть именно на таких тютчевских дорогах!
Поэзии 2000-х годов предстоит, образно выражаясь, пойти вперед, но при этом одновременно как бы «назад, к Тютчеву». Помимо великой значимости его стихотворений как таковых, колоссально значение открытых в них путей развития мысли. Поэзии необходимо их, эти пути, освоить. Пушкинская стилевая традиция разрабатывается уже почти два века, тютчевская пока совершенно не воспринята. В. Гумбольдт когда-то предложил понимать стиль как «отражение картины внутреннего развития мысли», т. е. отражение особого хода мысли, присущего данному художнику[27]. И может быть, глубже всего проникнет в Тютчева тот, кто сумеет в себе выработать навык к «слиянию» его стихотворений в нечто высшее, незримую субстанцию, – как бы к чтению «поверх текстов». Вместе с тем, несмотря на эпиграмматическую краткость, в стихах Тютчева сосредоточено сложнейшее содержание. Так есть же и какие-то «материальные» средства, которыми он достигает этого эффекта! И в общем сориентироваться в этих средствах можно-в той мере, в какой можно и уместно проникнуть в «творческую лабораторию» художника. Так, Тютчев мыслит «полюсами», между которыми – гигантское «смысловое расстояние» (Хаос – Гармония, Мир Живых – Мир Теней, Смерть – Сон и т. п.). Реальный фонтан внезапно превращается у него в «смертной мысли водомет» («Фонтан»), тень от дыма – в картину жизни человеческой («Как дымный столп светлеет в вышине»). Увиденные по пути из родного Овстуга «два-три кургана» «да два-три дуба», которые «выросли на них», побуждают (без всякой мотивировки, постепенности, плавного перехода – как поступил бы, пожалуй, любой поэт-современник) вознестись фантазией в необозримые натурфилософские сферы:
Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих – лишь грезою природы.
Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.
В сюжетах Тютчева часто намечаются лишь крайние смысловые точки, как тут. Самому читателю в воображении своем «писать» здесь, добираться к «истокам», заполняя содержанием огромное межполюсное пространство! Причем Тютчев делает озадачивающие пропуски не просто в поэтическом своем синтаксисе – он оставляет бездонные пропасти в самом развитии мысли (синтаксическая отрывочность и ей подобные особенности речевой формы – лишь внешние проявления этих смысловых бездн!). Выражаясь по-иному, Тютчев особым образом пользуется эллипсисами. И Тютчева даже не стоит обставлять оговорками: «Конечно, от такого отношения к русской речи случались подчас синтаксические неправильности…» (И. Аксаков). Во-первых, вряд ли тут неправильности. Академик Ф. И. Буслаев еще в 40-е годы XIX века подметил: «Русская речь отличается опущениями»; «эллипсис иногда так сжимает предложение, что трудно оное распутать по синтаксическим частям; напр., он первое ученье ей руку отсек; впрочем, мысль понятна и притом сильно выражена, ибо два предложения нечувствительно сливаются и взаимными силами усиливают мысль»[28].
Во-вторых, именно тут, в речевом микрокосме, надо бы и ловить жар-птицу тютчевской философии, на которую искатели тщетно расставляют тенета в его сюжетах. Язык Тютчева – целая «миротворная бездна» философии. А язык, как я уже посягал утверждать, и есть потайное Большое Произведение Тютчева-поэта. Оно, это Произведение, являло лишь свои отдельные грани или разрозненные частицы, давая ведомые нам, читателям, воплотившиеся в стихи «выплески». Главное, основное так и не запечатлелось на бумаге, осталось навсегда в душе поэта. В каком-то смысле можно сказать: поэзии XXI века предстоит написать стихи, не написанные Тютчевым… Эти стихи предстоит написать (или записать?) тем, кто по-тютчевски поэтические свои искания сосредоточит не в сфере внешней формы, узко понятой техники, а в смысловых глубинах родного языка…
Здесь мы, однако, невольным образом возвращаемся к модернистам. Дело в том, что о языке-произведении, о языке-герое и языке-теме творчества рассуждают обычно, имея в виду не Тютчева с аристократическим совершенством его поэзии, а совсем другого автора, отличающегося от Тютчева как земля от небес, – Велимира Хлебникова. Надо их «размежевать».