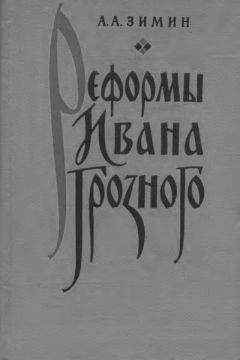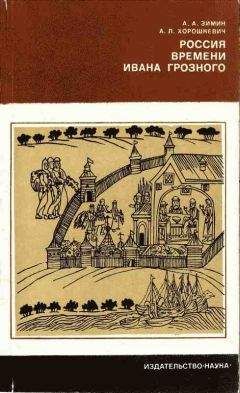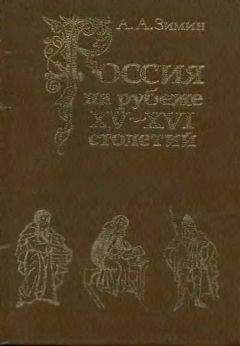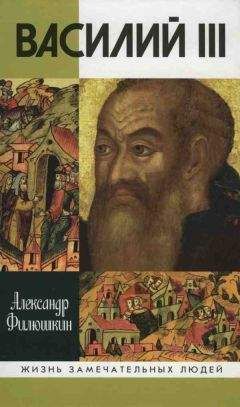Александр Зимин - Россия на пороге Нового времени. (Очерки политической истории России первой трети XVI в.)
Третьим из лиц, пострадавших в 1525 г., был Петр Муха Федорович Карпов, двоюродный брат известного дипломата Федора Ивановича Карпова, знатока восточных дел и видного гуманиста, друга Максима Грека[1087]. Сын Петра Мухи Василий в середине XVI в. числился сыном боярским по Костроме. Племянники Петра Мухи Федор и Афанасий Андреевичи в середине XVI в. служили по Кашину, причем первый из них в Тысячной книге 1550 г. помещен в рубрике «князь Юрьевские»[1088]. Следовательно, некоторые из Карповых, как и Беклемишевы, связаны были с князем Юрием.
К делу Берсеня — Максима Грека привлечены были также митрополичий дьяк Федор Жареный (возможно, недовольный деятельностью нового митрополита Даниила) и спасский архимандрит Савва Грек.
Но кроме этих лиц несколько человек были «советны» с Берсенем и приходили к нему и Максиму для разговоров по волнующим их вопросам. Судя по следственному делу, келейник Максима Афанасий говорил, что «прихожи были к Максиму Иван Берсень, князь Иван Токмак, Василей Михайлов сын Тучков, Иван Данилов сын Сабурова, князь Андрей Холмской, Юшко Тютин». При этом они «говаривали с Максимом книгами»[1089].
Иван Васильевич Токмак происходил из князей звенигородских. Его дети в середине XVI в. служили детьми боярскими сначала по Коломне, затем по «княж Юрьевскому Кашину»[1090]. Отец князя Ивана Василий Иванович Ноздреватый некоторое время был окольничим при Василии III (последний раз упоминается под 1509 г.)[1091]. Звенигород входил в удел князя Юрия Ивановича.
Второй из «советников» Бероеня — Василий Михайлович Тучков. Это фигура достаточно известная. Он был сыном окольничего М. В. Тучкова (из рода Морозовых). В 1511–1515 гг. М. В. Тучков — крымский посол, в 1533 г. — боярин, умер около 1550 г. В 1516 г. Михаил Васильевич и оружничий Никита Карпов ездили с миссией в Казань[1092]. Его сын Василий в изучаемое время был, очевидно, еще молодым человеком. Выдвинулся он позднее, когда с 1541 по 1545 г. был рязанским дворецким. Умер в 1548 г. По поручению митрополита Макария в 1537 г. составил особую редакцию Жития Михаила Клопского[1093]. Он принадлежал к непосредственному окружению Максима Грека. В 1545 г. по его распоряжению была переписана одна из рукописей Грека[1094].
Третье лицо из близких Максиму и Берсеню — Иван Данилович Сабуров, двоюродный брат Соломонии. Он служил по Новгороду. Еще в 1522 г. на сравнительно видных местах находились окольничий Андрей Васильевич (двоюродный брат отца Соломонии), его сын Михаил (рында) и брат Соломонии Иван Юрьевич (рында, возможно, кравчий). Все они вместе с ближайшим окружением Василия III отправились летом 1522 г. в Коломну в связи с предполагавшимся походом Мухаммед-Гирея. Этот год был началом заката карьеры Сабуровых. Андрей Васильевич исчезает из разрядов почти на 10 лет и появляется с чином боярина в конце 1531 г., т. е. после рождения у Василия III наследника[1095]. Только один из Сабуровых в 20-х годах сохранил ненадолго свое положение, да и то потому, что находился вдали от великокняжеского двора, — это дядя Соломонии Иван Константинович Сабуров, новгородский дворецкий в 1517–1525 гг. Близость И. Д. Сабурова к кружку Берсеня объясняется и тем, что Василий III, собираясь вступить во второй брак, отстранил от себя родичей Соломонии.
Следующим из окружения Берсеня и Максима был князь Андрей Иванович Холмский. Вероятно, он также был молодым человеком[1096]. Его троюродным братом был известный князь В. Д. Холмский, женатый на сестре Василия III и «пойманный» в ноябре 1508 г.[1097] После опалы князя Василия Холмские были отстранены от сколько-нибудь видной придворной деятельности.
Наконец, Юшка Тютин — отец известного казначея середины XVI в. «грецка роду»[1098]. Тютин происходил из той же среды греков, близкой к государевой казне, из которой вышел и грек Юрий Траханиог, попавший в опалу около 1522 г.[1099]
В одном ящике Царского архива с материалами дела И. Берсеня и Максима Грека хранились «списки Петра Карпова-Мухина, и Некраса Харламова, и Якова Дмитриева». Опала этих лиц также связана с делом Берсеня. Дьяк Иван Некрас Владимиров сын Харламов был одним из видных деятелей дьяческого аппарата в 1510–1522 гг. Последний раз в источниках он упомянут осенью 1523 г. во время приема литовских послов[1100]. Яков Дмитриев сын Давыдов в 1512–1515 гг. упоминается в разрядах как военачальник князя Дмитрия Углицкого. Его сын Григорий в середине XVI в. служил как дворовый сын боярский по Угличу[1101].
Вторым браком Василия III были недовольны многие из «мирских сигклигов», т. е. знати. Среди них был и князь Семен Федорович Курбский, видный полководец. Его великий князь «от очей отогнал, даже до смерти его». В неудачном Казанском походе 1524 г. князь Семен, возглавлявший передовой полк судовой рати, затем в разрядах исчезает. Он появился единственный раз в 1528 г., когда находился в Нижнем Новгороде. Жив был он, очевидно, еще в 1547/48 г.[1102] Курбские связаны были с удельными князьями.
Двоюродный браг князя Семена Андрей Дмитриевич женат был на дочери Андрея Васильевича Углицкого[1103]. Браг Андрея Дмитриевича Михаил Карамыш (дед Андрея Курбского), по словам Грозного, «умышлял» с Андреем Углицким на Ивана III. Племянник князя Семена Андрей Михайлович Курбский давал резкую характеристику и самому Василию III, и Софии Палеолог. Себя он считал учеником Максима Грека. Мать князя Андрея была сестрой В. М. Тучкова, также одного из учеников Максима Грека. По словам Грозного, отец Андрея «многи пагуба и смерти умышлял» вместе с Дмитрием-внуком на Василия III[1104].
В 1523 г. в последний раз в разрядах упомянут Михаил Андреевич Плещеев. Из более поздних известий мы знаем, что он попал в немилость. Причины опалы М. А. Плещеева в общем ясны — это связи его с оппозиционными кругами. Дед его Петр Михайлович служил боярином князю Юрию Ивановичу. При дворе дмитровского князя находился и его дальний родственник Василий Рычко Помяс Плещеев (сын Воропая Петрова)[1105]. В середине XVI в. по Кашину служили Василий Семенович Плещеев с детьми Андреем и Замятней, тогда же по Дмитрову числились Нечай и Чобот Никитичи Плещеевы[1106]. Двоюродному брату Никиты Павлиновича Ивану Васильевичу Плещееву в мае 1526 г. князь Юрий Дмитровскии выдал жалованную грамоту.
Плещеевы были близки и к Кирилло-Белозерскому монастырю, поддерживавшему нестяжателей. Если дядя Михаила Плещеева Вельямин постригся в Троице, то родной брат Афанасий «был в чернцах в Кирилове монастыре». Возможно, это пострижение было недобровольно. Во всяком случае один двоюродный брат Михаила, Иван Юрьевич, «побежал в Литву», а другого, Василия, «постриг… князь великий в Кирилове монастыре в опале». Несколько Плещеевых служили митрополитам, причем один из них, Богдан Федорович, — Варлааму[1107].
Таким образом, опалу М. А. Плещеева с большей долей вероятности можно связать с событиями 1525 г.
Итак, в деле И. Н. Берсеня Беклемишева и Максима Грека явственно обнаруживаются две группы лиц. С одной стороны, это люди, связанные с окружением Юрия Дмитровского и Дмитрия Углицкого (И. Берсень, П. Муха Карпов, Я. Давыдов, возможно, М. Плещеев), с другой — нестяжательская часть духовенства (Максим Грек). Выступая из канонических соображений против предполагавшегося развода Василия III, Максим Грек и его окружение тем самым отстаивали права Юрия Дмитровского на наследование московского престола[1108].
О том, что Максим Грек и его окружение выступали против второго брака Василия III, свидетельствует «Выпись о втором браке», составленная на вполне доброкачественных источниках. В ней рассказывается о выступлении Вассиана Патрикеева (друга Максима) против развода великого князя и мотивируется осуждение Максима и его сподвижников «того ради, чтобы изложения и обличения от них не было про совокупление брака»[1109], т. е. чтобы они впредь не выступали против второго брака великого князя. Конечно, Это было не официальное обвинение, а лишь причина гнева великого князя.
О сходстве позиции Вассиана с Максимом Греком можно судить уже не только по «Выписи», но и по рассказу Андрея Курбского[1110]. Н. А. Казакова считает оба рассказа недостоверными, ибо, по ее наблюдениям, Вассиан после 1525 г. еще в течение ряда лет пользовался влиянием при великокняжеском дворе[1111]. Но этот довод не может считаться убедительным. Ведь и Сильвестр в 1553 г. выступал на заседании Боярской думы против Ивана IV (по вопросу о наследнике престола), однако осужден он был значительно позднее (в 1560 г.). В отличие от Максима Грека Вассиан не был противником внешнеполитической программы Василия III.