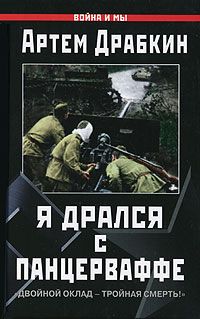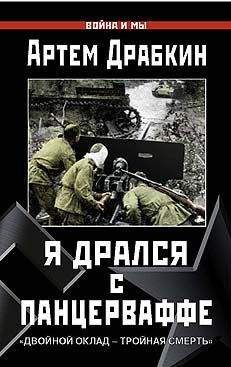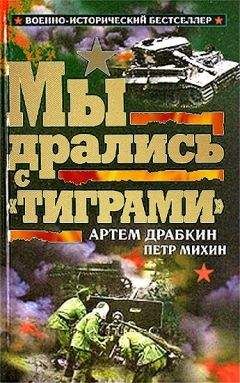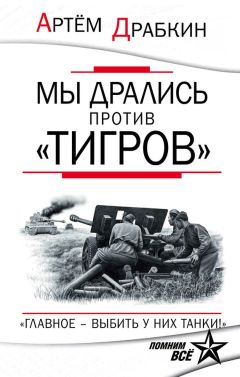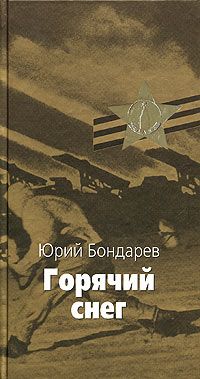Артем Драбкин - Я дрался с Панцерваффе. "Двойной оклад - тройная смерть!"
Похоронили на месте боя своих товарищей. Двое из них, Паничев и Ендрихин, были моими хорошими друзьями... Надо было отходить к своим. Послал разведку, и они, вернувшись, доложили - обнаружены четыре орудия, два из которых разбиты. Расчетов нет, но имеются снаряды. "Студеров" не было, пришлось орудия тащить на себе. Раненых тоже. Едва вышли из деревни, столкнулись с немцами, пытавшимися нас окружить. В бешеном темпе, словно не было усталости, развернули орудия и заняли круговую оборону. Еле отбились...
И когда уже оторвались от немцев, в сумерках нас вновь обстреляли. Крикнул бойцам: "Ложись!", по звуку автоматной стрельбы понял, что бьют свои. Нацепил на какую-то палку кусок бинта и поднял над головой. Сдаемся, мол. Огонь прекратился. К нам вышел офицер с ПД в руках. "Кто такие?" подозрительно глядя на нас, крикнул он. - "Мы свои, из боя выходим". "Документы?!" Проверив документы, он добавил: "Мы думали, что опять немцы прут. Только что две атаки отбили".
По рации, имевшейся у пехоты, связались со своими. К нам выслали машины. Погрузили на них раненых и снаряды, прицепили свое и два подобранных орудия и вскоре прибыли к своим. Черняк, встретив меня, прослезился.
"Я уже тебя похоронил, - сказал он. - В штаб армии доложили, что одна батарея ведет бой в деревне. А когда вы замолчали, мы решили, что все, ваша песенка спета. Приказ на ваш отход мы послали. Но видно, связной не дошел до вас". Вывел я к своим 48 человек.
Слева направо: Черномордик, комсорг полка Степневский, начштаба полка Попов
Рогачев Александр Васильевич
г. Сибиу. 18.9.44 г. Рогачев Александр (слева) и Пантелеев Иван
Родился я в семье рабочего 21 марта 1923 года в городе Ефремове, бывшей Московской, а с 1938 года Тульской области. Кроме меня в семье был старший брат Владимир, 20-го года рождения, и младший брат, 25-го года рождения. Оба прошли войну. Старший брат техником в бомбардировочном полку, а младший разведчиком. Матери завидовали: три сына и муж ушли на войну, и все с войны вернулись. Но братья мои рано умерли. Так что я доживаю последние дни, за всех своих родных.
Вечером 21 июня у нас в школе № 1, в которой я учился, был выпускной вечер, на котором мне должны были вручить аттестат о ее окончании. Я руководил струнным кружком, играл на мандолине, балалайке, гитаре. Мой небольшой оркестрик из восьми человек хорошо выступил на этом вечере. Настроение-то у нас было веселое, а у преподавателей и некоторых приглашенных родителей не особенно радостным. Многие из тех, кто присутствовал на этом вечере, чувствовали себя скованно. Преподаватели стояли скучные, задумчивые. Видимо, они чувствовали, что надвигается война. Об этом же писал в письмах старший брат Владимир, который со 2-го курса Московского гидрометеорологического института был в 1939 году призван в армию. Окончив курсы, он служил авиамехаником в истребительном полку, стоявшем у самой границы возле Бреста. Некоторые предложения в его письмах были вымараны цензурой, но я помню, что в первых числах июня пришло письмо, где было написано: "Мама и папа, не надейтесь на скорую встречу. Приближается война, в которой нам придется участвовать". Родители, особенно мать, конечно, переживали.
В одиннадцать часов вечера я уже был дома и лег спать. А утром 22 июня нам объявили, что началась война. Числа 24-го мы с ребятами пошли в военкомат. Там столпотворение! Народу! Призывали старшие возраста. Женщины провожали. Гармошки играют, песни, плач. Мы кое-как к дежурному пробились, он говорит: "Ребята, вы не лезьте, не мешайте работать, ждите своей очереди. Сейчас пока призываются старшие возраста". Мы вернулись ни с чем, но вскоре вступили в истребительный батальон, помогали поддерживать порядок в городе. В конце июля я уже получил официальную повестку.
Когда я проходил предварительную комиссию в феврале 1941 года, я был зачислен во флот. Я этим очень гордился! Я так хотел стать моряком! Хорошо плавал, на реке же вырос, катался на коньках, на лыжах, спортом занимался, а когда повестку получил и пришел в военкомат, то мне говорят: "Нет, дорогой, пока флот подождет. Нужно пехоту пополнять". Ну, хорошо. Сформировали в первых числах августа отряд призывников, который возглавил лейтенант-орденоносец, раненный на Финской войне. Он нас должен был доставить в запасной стрелковый полк, где мы должны были пройти обучение и потом уже влиться в состав действующей армии. Маршрут и расположение этого полка знал только он. И вот мы из Ефремова примерно в середине августа тронулись пешим порядком. Прошли мы через Тульскую, Московскую, Рязанскую области, короче говоря, этот запасной стрелковый полк находился в г. Йошкар-Ола Марийской АССР. Мы пешком прошли все это расстояние! Шли по 25-30 километров в сутки. Ночевали в селах и деревнях. Иногда нам выдавали продпайки, а большей частью нас жители подкармливали. Отряд рос по мере того, как в него вливались призывники 22-го и 23-го годов рождения. И что характерно, несмотря на все трудности и сложности этого тяжелого перехода, никто из отряда не убежал. Все дошли до конечной точки маршрута!
Расположились мы за городом в цехах керамического завода. Началась наша учеба. Конечно, питание было скудным, условия были спартанскими - там были цеха для обжига кирпича, в которых мы построили двухэтажные деревянные нары. Одеты и обуты мы были в свое, гражданское. Но учили неплохо. Проходили тактику, теорию стрельбы, были и стрельбы на полигоне. Готовил нас младший лейтенант, командир роты, фронтовик. Говорил: "Основная-то учеба на фронте будет, здесь подготовительная". Помню, он все командовал: "Давай, ребята, веселей, молодежь!" А настроение у нас было неважное: города сдают, армия отступает. Мы между собой так говорили: "Ну что это старики плохо воюют, не могут немца сдержать?! Вот мы пойдем, мы им покажем!"
В первых числах ноября наша подготовка закончилась. В середине ноября нам выдали добротное обмундирование - байковое нижнее белье, телогрейку, шинель, маскхалат, подшлемник, валенки. Каски не было. В городе Йошкар-Ола сформировали нашу 47-ю отдельную стрелковую бригаду, погрузили в эшелоны. Нам объявили, что бригада вливается в состав 1-й ударной армии и будет защищать Москву. Числа 15-го, что ли, эшелон прибыл на станцию Лихоборы. Пешим порядком пошли по Дмитровскому шоссе в направлении Яхрома - Дмитров. Шли тяжело, ночевали в лесах под елками, костров не разводили. Прошли 5 километров, потом привал 10 минут, падали и сразу засыпали. Команда "Подъем!" - еле-еле поднимались. Зимнее обмундирование тяжелое, да к нему еще вещмешок и оружие. Я был первым номером расчета ручного пулемета ДП. Так что я нес сам пулемет, а второй номер тащил две коробки с четыремя дисками. Выносливые ребята были, молодые... По 40 километров в день шли. На ногах кровавые мозоли. Они лопались, засыхали, потом эти портянки отдираешь... Так и шли.
Расположились по каналу Москва - Волга, заняли там оборону. Потом началось контрнаступление, и мы пошли освобождать села. Названия я их сейчас не помню, конечно. Из городов запомнились Солнечногорск, Клин, Шаховская. За Клин были очень тяжелые бои. Помню, мы вошли в дом-музей Чайковского. Фашисты все перевернули в нем вверх дном. Мы собирали ноты...
Бои в Подмосковье тяжелые. Снег глубокий, мороз. Наступаем на село оно, как правило, на возвышенности - после слабенькой артиллерийской подготовки. Командир взвода командует: "Справа по одному перебежками, марш!" Какие перебежки?! Снег! Идем. Пули свистят. Пройдешь метров шесть, падаешь, выбираешь себе такое более-менее удобное укрытие, ведешь огонь. Ждешь, когда остальные подтянутся. Подтягиваются, а до немца еще метров пятьсот. Пока метров двести пройдем, во взводе народу-то осталось 15-20 человек. Неудачная атака. Что делать? Командир решает отойти назад. Под огнем отходим. Когда смотришь на эти потери, а там свободного места от трупов на поле не было, они как снопы лежат, горами, между которыми небольшие промежутки, думаешь: "Долго ли такая будет идти битва? Почему из-за этой проклятой деревни столько людей положили, а никак не можем взять? Возьмем мы ее или нет?" Сидим, все в пороховой гари, обожженные, смотрим друг на друга и мысль такая: "Пусть убьют, только бы руку, ногу не оторвало. Убило бы и все". Вечером приходят маршевые роты: то пожилые приходят, то молодые. Они все спрашивают: "Как там, ребята?" - "Что спрашивать? Пойдем в атаку, узнаешь, как там". Ему, может, 35-40 лет, а нам-то - 18-19, но они смотрят на нас с почтением. Днем в две-три атаки сходим, и от этого пополнения никого не осталось. Вечером опять приходит маршевая рота, опять взвод пополняют до штатной численности. А мы, костяк взвода, так и воюем. Была такая более или менее стабильная группа из примерно десяти человек, из нее, может, один-два человека в день выбывало, а остальные каждый день менялись. Я потом расскажу про свой последний бой, в котором меня ранило. В этом же бою в ногу ранило замкомвзвода старшего сержанта Медведченко. Меня скатили, и санитар сказал: "Вот последние ветераны взвода - замкомвзвода Медведченко и пулеметчик Рогачев". Как кормили? Хорошо, но только к нам пища очень редко на передовую поступала. То мы оторвемся, то лежим под огнем, и пробраться к нам невозможно. Пока бойцы с кухни с термосом доползут, пока мы выйдем из атаки... Где-то какая-то передышка, и в этот момент, может, в день один раз, а то и ни одного... А так сухой паек - сухари, сахар. И вдруг приползает: "Бойцы, на обед". В термосе горох с мясом - ложку не воткнешь замерзло. Что, будешь костер разводить, разогревать? Едим холодный. На Северо-Западном фронте три сухаря и пять кусочков сахара на день - все! Саперной лопатой павших лошадей рубили. Разведем маленький костерок, конину распарим - она как резина - ничего, жуем. Но знаешь, особого аппетита не было, и голода не чувствовали, потому что все время в напряжении, вымотанный и физически, и морально. О еде мысли возникают, только когда из боя выйдешь, да и то они забиваются ощущением разбитости, опустошенности. Настолько тяжело дается переживание, ощущение смертельной опасности. Правда, со временем чувство страха притупляется, оно как бы тебя опустошает, и остается одна ненависть. Хочется ворваться, убить, освободить, и вроде потом будет какая-то разрядка. А тут бьемся, бьемся, и все никак... Хотя мысль о бесполезности этих потерь она как-то в голову не приходила. Вот в 44-м году, когда стали вспоминать 41-й: "Господи, да как же мы воевали?! Зачем же мы несли такие потери?! Как же мы были неопытны!" А когда провели результативную атаку, тут как-то легко. Вроде не напрасно товарищи погибли, вот мы им показали. Вон они лежат убитые. А то берем деревню - бьем-бьем. Возьмем ее, а убитых немцев вроде и нет. Ну, может, лежат 30-40 убитыми, а у нас человек 700. У наших бойцов и командиров такой вопрос: "Что же это такое? Мы потери несем, а немцы вроде нет". Говорили, что они убитых забирали и хоронили... Они очень умело воевали. У них армия была квалифицированная, с опытом боев, закалкой. Немцы умело ориентировались, выбирали позиции. Ну и ручной пулемет МГ-34 - это страшное, незаменимое оружие. У нас рота наступает, а у них отделение с одним пулеметом ее сдерживает. Огонь - сплошной, ливень. Несем потери, вперед-вперед, но пока их не уничтожим - не продвинемся. У них в случае чего машины наготове. Они гарнизон на машину сажают и в следующую деревню за 3-10 километров. Она опять укреплена. Немцы зимой в открытом поле не воевали, у них там блиндажи, окопчики, а мы поспим в лесу и опять в атаку по голому полю, по снегу. Вот так от деревни до деревни, все время своими ножками....