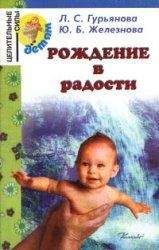Константин Федин - Первые радости (Трилогия - 1)
Уже когда пир затихал и старшие почтенные гости разбредались, перед уходом выпивая в передней "посошок" шипучки и кладя на поднос лакею чаевые целковые, а за столом дошумливали вокруг последних бутылок Витюшины друзья, Лиза незаметно вышла на галерею.
Далекие горы темнели. По самой вершине их мерцала, как фольга, прощальная полоса гаснущего света. Чем ниже бежали по склонам городские дома, тем плотнее сливались они в тусклую массу. На ее пепельном фоне траурными подпорами неба возвышались три знакомых пирамидальных тополя. Дневной ветер еще не совсем улегся, изредка сбивая с тополей горстки черной умершей листвы, которые порывисто рассеивались и пропадали в сумраке. Перед школой никого не было, к вечеру улицы становились холодны, осень надвигалась торопливо. Скоро ли теперь Лиза опять увидит беленый дом и трех его высоких стражей, одинаково верно оберегавших сначала ее надежду, теперь - память о ее несчастье? Когда она вновь станет перед этими окнами поверенными всех ее размышлений, всех ожиданий? Или, может быть, сейчас, в притихшую минуту, в подвенечном платье, с листиками мирта на голове, она должна сказать через эти стекла последнее "прощай" всему былому, чтоб больше никогда сюда не возвратиться?
Так она стояла, не слыша застольного шума, почти прикасаясь лицом к прохладному стеклу. Потом она вздрогнула и оторвалась от окна: к ней подходил, неровно подпрыгивая на носках, ублаготворенный, мокренький Меркурий Авдеевич.
- Доченька моя, - сказал он, прилежно выталкивая душевные, мягкие нотки и стараясь не комкать слога, - единственная, родная! Вот ты и выпорхнула из гнездышка. Вот я и не услышу больше твоего чириканья. Чирик-чирик! Где ты?..
Он обнял Лизу, запутавшись пальцами в тонком тюле фаты, и приклонил раскосмаченную голову к ее плечу.
- Ты думаешь - просто раставаться с дочей? Тебе не сладко, а отцу с матерью каково? Чирик-чирик? Эх, Лизонька! Что ты мне скажешь? Что скажешь отцу на расставанье, воробушек мой?
Она почтительно приподняла и отодвинула его голову. Поправив фату, отступив на шаг, сжала твердо брови, отвела взгляд за окно.
- Благодарю тебя, - проговорила она низким голосом. - Я из твоей воли не вышла. Сделала, как ты хотел. Но у меня есть теперь просьба, папа. Я прошу у тебя... - Она подождала немного и оперлась рукой о подоконник. Прошу у тебя милосердия, - сказала она вдруг громче. - Я ведь не сама ухожу из дому, а по твоей воле. Зачем же ты говоришь... кому больнее, кому слаще? Выпорхнула из гнездышка! Не будем никогда об этом. И попроси маму не плакать. Это жестоко. Я не могу. Слезы впереди. К несчастью... впереди!
Меркурий Авдеевич глядел на нее трезвевшими глазами, слегка подаваясь вперед и назад, переплетая пальцы обеих рук за спиной.
- Напрасно, - произнес он, и Лиза расслышала, как он захлебнулся коротким всхлипом. - Напрасно и непохвально так отвечать отцу. По-твоему, отец тебя не жалеет, и за это сама не хочешь пожалеть отца. Коришь меня моей волей. А забыла, что ни один волос не упадет с головы без воли отца небесного? Все, что совершается, совершается по воле его. Забыла? И еще запомни: живи с мужем по примеру своей матери. Она за четверть века ни разу меня не ослушалась.
- О, если бы она ослушалась только единственный раз! - воскликнула Лиза. - Разве я была бы теперь такой одинокой!
Она выронила веер, наступила на него белой туфелькой. Отец тяжело нагнулся, вытянул веер из-под ноги, отряхнул и разгладил перья, сказал:
- Восстаешь против рассудка. Должна быть счастлива, что господь миловал и тебя, и нас с матерью. Если бы не стала Шубниковой, может, сейчас шагала бы по тракту, следом за...
Он оборвал себя, но Лиза уже смотрела на него в испуге.
- Что ты о нем знаешь? Скажи мне, скажи... и я даю слово, что никогда в жизни больше не заговорю о нем!
- Ничего не знаю. Только благодарю бога, что спас тебя от несчастья. А что ты держишь его в помыслах, когда уже венчалась с другим, - это великий грех. Помни, мы посланы в эту жизнь исполнить свой долг.
- Ах, как знать, зачем мы посланы в эту жизнь! - опять воскликнула она, с силой прижимая ладони ко лбу, и в это время прозвенел голос Витюши:
- Лизонька! Лиза! Пора ехать, надо прощаться!
Он бежал к ней, и фалды сюртука развевались у него по бокам.
- Я тебя ищу по всему дому! Ты расстроена? Что с тобой?
- Нисколько не расстроена, зачем расстраиваться? - успокоил Меркурий Авдеевич, просветляя лицо восторженной улыбкой. - Я ее напутствую на предстоящую дорогу. Живите в мире, в дружбе, милые дети мои! Пойдем простимся!
Он ласково соединил локотки молодых.
Все собрались в гостиной, расставившись полукругом, в середине - Лиза и Витюша. Приложились к благословенной иконе матери божией "Утоли моя печали", перекрестились. Валерия Ивановна обняла дочь и заплакала. У нее не хватало слов, она объяснялась слезами. Лиза, с горящими глазами, молча разомкнула ее руки. Шафер в бачках умильно взял икону и нетвердо двинулся к дверям, впереди молодых. Следом прошли провожавшие.
Кремовая карета с неопределенным вензелем на дверце в третий раз за день приняла в свое пружинно-бархатное лоно Лизу. Витюша сел рядом, обнял ее за талию. По дороге они смеялись над шафером: он сидел напротив, держа на коленях икону, его быстро укачала езда, он начал клевать носом, Витюша подпирал его свободной рукой в грудь, и при этом коробившаяся манишка щелкала тугим барабанным звуком.
Новый дом Лизы принял ее двумя богатыми столами. Один был накрыт винами и сластями, на другом Шубниковы разложили подарки. Здесь кучились серебро, мельхиор, бронза, в которых практичность Дарьи Антоновны, запасавшей ложки, блюда, соусники, ножи и вилки, проглядывала вперемежку с легкомыслием Витюши, накупившего вздорных подставочек, подвесочек, бокальчиков и фигурок. Тетушка, как бывалый капитан, снаряжала корабль в дальнее плавание, племянник же чувствовал себя вольным пассажиром, отправляющимся развлекаться.
Он вообще брал человеческое бытие с его легкой, приятной стороны, как всякий, кому жизнь досталась готовой, сделанной руками предшественников. Он недолюбливал стариковскую расчетливость и не дорожил обычаями, если они не доставляли удовольствия. Привычки нового времени ценились им дороже. Как-никак, у стариков не было синематографа, они не знали, что такое граммофон, они не верили, что человек может летать на крыльях. Сыграв свадьбу, они запирались в горницах и не спускали ног с лежанки. А Витюша, человек вполне современный, решил во что бы ни стало предпринять свадебную поездку, например, в Крым, на бархатный сезон, или в Санкт-Петербург - в город чудес, где устраивают гонки на скетингринге - на этом летнем катке, и с островов любуются заходящим в море солнцем. Он составил программу времяпрепровождения до поездки, на целую неделю, запомнив вдоль и поперек анонсы во всех газетах. Словом, он принадлежал к людям, умеющим пожить.
Хороший тон требовал начать выходы непременно с городского театра. Там, в первый день после свадьбы, ставили "Гамлета". Витюша гимназистом дважды принимался читать "Гамлета", но оба раза задремывал сейчас же, как только исчезал Призрак. Однако идти в Общедоступный театр было неудобно, хотя там шла пьеса тоже под очень приличным иностранным названием "Гаудеамус", чего нельзя было сказать о театре Очкина, где играли "Бувальщину" и даже "Каторжну". Странно было бы в самом деле почти прямо из-под венца смотреть "Каторжну"! Для Лизы вопроса этого не существовало: выяснилось, что она обожает Шекспира, - к изумлению Витюши, который просто не поверил, что можно любить такую скуку. Впрочем, он согласился, что сцены с Призраком действительно остаются в памяти. Зато для него не подлежала обсуждению другая часть программы. На гипподроме - по желанию Аэроклуба должен был состояться "безусловно последний полет на высоту" авиатора Васильева ("дождливая погода не препятствует. Играет оркестр, приглашенный Аэроклубом"). Французский цирк давал решительно бессрочную схватку четырех пар борцов. В зале музыкального училища пела известная исполнительница русских песен, любимица публики - Надежда Васильевна Плевицкая. Ни полет, ни борцы, ни Плевицкая у Лизы не встретили никаких возражений, - за своего Шекспира она, кажется, готова была ходить и ездить куда угодно.
Весь этот план удовольствий предстал перед ней в своем принудительном великолепии, когда она, ранним утром, впервые вышла из спальни мужа в столовую.
Она села в кресло. Витюша еще спал. Его дыхание слышалось через открытую дверь. Оно напоминало посасывание курительной трубочки с легким прибулькиванием. Свет был тихим, драпировка окон стесняла его проникновение, он бедно размещал блестки на серебре и бронзе подарков. Лиза устало переводила взгляд с голеньких, тонко вытянутых вверх мельхиоровых женщин на длинношерстого сеттера, на лошадиную голову, на ласточек, свесивших хвостики своих фраков с фарфоровой вазы. Ей не хотелось подойти и ближе осмотреть всю эту зоологию, рассаженную по пепельницам, бюварам и кубкам. Ей казалось, она видит эти вещи очень давно и они скоро ей надоедят, как лишнее время, как чрезмерный досуг. Вся комната была как будто давнишней знакомой, и Лиза думала, что вот теперь, куда бы она ни пошла, - на полеты, в театр или просто на улицу, отбывая какую-нибудь программу развлечений, - она должна будет всегда возвращаться к своим собакам, лошадиным головам, мельхиоровым женщинам с удлиненными изогнутыми телами. Это ее будущее. Оно предначертано ей, уготовано, как неизбежность. И перед ней единственный путь, которым она может идти, - путь примирения.