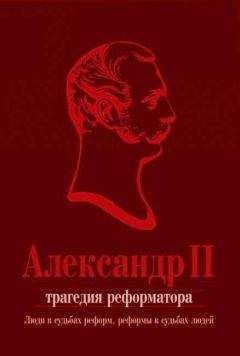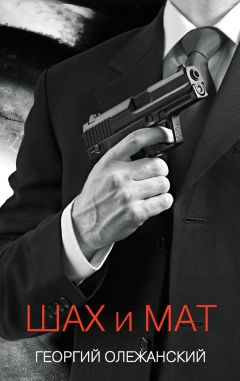Михаил Горбачев - Жизнь и реформы
В руках центра в значительной мере концентрировалось все, что производилось в стране. Здесь же все распределялось. С первых дней, когда на меня обрушился поток просьб и ходатаев о «выделении фондов», «оказании помощи», я увидел, что на самых различных уровнях государственного и партийного аппарата чиновники различных рангов используют решение этих вопросов для укрепления своего влияния и власти. Дать или не дать корма, удобрения, технику, стройматериалы зависело от тех, кто был у власти или просто причастен к принятию решений. И тут личные интересы, связи, кумовство нередко значили куда больше, чем справедливость или деловой расчет.
Почва для коррумпированности создавалась самая благодатная. Формы ее были весьма многообразны: чтобы ухватить кусок от общего пирога, в ход шли все средства. Помимо вульгарной взятки, подношений и подарков существовали и более «тонкие» — взаимная поддержка и мелкие личные услуги различного свойства, совместные пьянки под видом охоты или рыбалки.
Идея, возникшая у меня в этой связи, могла показаться парадоксальной. В качестве чрезвычайной меры я предложил направлять все просьбы исключительно Генеральному секретарю ЦК КПСС. Сель-хозотдел сводил заявки, поступавшие от ЦК республик и обкомов, собирал объективные данные о реальном положении в этих регионах с продовольствием и фуражом. Такого рода сводная записка докладывалась самому Брежневу. Готовились проекты решений. Генсек принимал окончательное решение — помощь исходила как бы непосредственно от него, ему это импонировало. Но достигался хоть какой-то порядок в распределении зерновых ресурсов.
Стычки с Косыгиным
В 1979 году хлеба собрали намного меньше, чем в предыдущем. Я пришел к печальному выводу, что план заготовок становится нереальным, разницу придется покрывать за счет закупок зерна за рубежом.
Предваряя окончательное решение, я подготовил предложение-прогноз и после возвращения из отпуска основного состава руководства разослал записку членам Политбюро. Однако произошло событие, опередившее ее официальное обсуждение.
7 сентября 1979 года в Кремле должно было состояться вручение наград космонавтам В.А.Ляхову и В.В.Рюмину за самый продолжительный по тем временам 175-суточный полет. Все члены руководства, находившиеся в Москве, пришли для участия в этой торжественной акции. Мы стояли у входа в Екатерининский зал, переговариваясь друг с другом. Леонид Ильич, как обычно, поинтересовался урожаем. Я ответил, что надо срочно добавить автомашин Казахстану для перевозки хлеба и центральным областям на уборку свеклы. В разговор вмешался Алексей Николаевич Косыгин, довольно резко стал выговаривать мне: хватит, мол, попрошайничать, надо обходиться своими силами.
— Послушай, — прервал его довольно миролюбиво Брежнев, — ты же не представляешь себе, что такое уборка. Надо этот вопрос решать.
Но Алексей Николаевич не остановился, продолжил еще более раздраженно:
— Вот тут нам, членам Политбюро, разослали записку сельхозотдела. Горбачев подписал. Он и его отдел пошли на поводу у местнических настроений, а у нас нет больше валюты закупать зерно. Надо не либеральничать, а предъявить более жесткий спрос и выполнить план заготовок.
Я понимал, что аппарат Совмина будет настраивать Косыгина негативно, но подобного рода реакции все-таки не ожидал. А поскольку обвинения были достаточно серьезны, то и сам не сдержался, заявил, что если предсовмина считает, что мною и отделом проявлена слабость, пусть поручает вытрясти зерно своему аппарату и доводит эту продразверстку до конца.
Воцарилась мертвая тишина… Как-то надо было выходить из разразившегося скандала. Выручил кто-то из распорядителей:
— Леонид Ильич, — громко сказал он. — Все готово, пора идти. В затылок друг другу потянулись мы за Брежневым в Екатерининский зал.
Вручили награды космонавтам, и я вернулся в свой кабинет. Настроение было подавленное. Не только потому, что конфликт произошел именно с Косыгиным, которого я глубоко уважал. В такие моменты я всегда старался проявить хладнокровие и трезво оценить — не допустил ли какую-то ошибку? В политике заготовок проводилась жесткая линия, но существовал предел, через который, как я считал, просто нельзя переступить. Вытряхнуть все до последнего, конечно, можно, для подобного рода акций партия обладала опытом более чем достаточным. Но это было бы бесчестным по отношению к крестьянам, да и противогосударственным. Надо было не давить, а искать разумный выход.
Минут через пятнадцать раздался телефонный звонок Брежнева.
— Переживаешь? — спросил он, видимо, желая подбодрить и успокоить меня.
— Да, — ответил я. — Но дело не в этом. Не могу согласиться с тем, что я занял негосударственную позицию.
— Ты правильно поступил, не переживай. Надо действительно добиваться, чтобы правительство больше занималось сельским хозяйством. — На этом разговор закончился.
Часа через два еще звонок. На прямом проводе Косыгин. И как ни в чем не бывало:
— Я хочу продолжить разговор, который мы начали.
— Алексей Николаевич, — ответил я уже без всякого раздражения и обиды, — может быть, вы в самом деле возьмете на этом заключительном этапе инициативу в свои руки. Для меня это первая такая кампания, да еще в такой тяжелый год.
Косыгин помолчал, потом ответил:
— Я еще раз перечитал вашу записку. Вносите свои предложения в Политбюро.
Он сказал это тоже без всякого раздражения, не отчитывая, но и не извиняясь. Ну что ж…
Кстати, забегая вперед, скажу, что задание по заготовкам, которое оспаривал Косыгин, тоже не было выполнено.
Инцидент с Алексеем Николаевичем имел для меня совершенно неожиданные последствия. Определенная часть руководства, видимо, восприняла его однозначно — как мою жесткую позицию по отношению к Косыгину лично. Об этом я подумал, когда однажды поздней осенью Суслов сказал:
— Тут у нас разговор был. Предстоит Пленум. Есть намерение укрепить ваши позиции. Было предложение ввести вас в состав членов Политбюро. Но я выступил против и хочу, чтобы вы знали об этом. Будем рекомендовать вас кандидатом в члены Политбюро. Так будет лучше. Рядом с вами работают секретари по пять, десять, пятнадцать лет. Зачем вам создавать вокруг себя лишнее напряжение?
Он был прав.
Жизнь в столице
Работа в ЦК оставляла мало времени для семьи, отдыха. Но надо было вживаться в столичную жизнь, налаживать новые отношения. Нам, естественно, хотелось понять атмосферу, в которой живут семьи моих новых коллег, да просто познакомиться с ними. Увы, все оказалось не так, как я предполагал.
Встречи и хождение в гости не поощрялось — мало ли что… Сам Брежнев звал к себе строго ограниченный круг — Громыко, Устинова, реже Андропова, Кириленко. Были, правда, исключения. Ранним летом 1979 года нашу семью пригласил провести вместе выходной день Суслов. Договорились поехать погулять по территории одной из дальних пустующих сталинских дач. Он взял с собой дочь, зятя, внуков. Провели там почти целый день — гуляли, разговаривали. Никакого обеда устраивать не стали, но чай все-таки был. Это была встреча ставропольцев: старожил Москвы как бы проявлял внимание к молодому, прибывшему из тех мест коллеге.
Даже с Андроповым, несмотря на добрые отношения, так и не пришлось нам ни разу пообщаться в домашней обстановке. Однажды я попытался было проявить инициативу, но что из этого вышло — вспоминаю, до сих пор испытывая чувство неловкости. Когда в конце 1980 года я стал членом Политбюро, наши дачи оказались рядом. И вот как-то уже летом следующего года я позвонил Юрию Владимировичу:
— Сегодня у нас ставропольский стол. И как в старое доброе время приглашаю вас с Татьяной Филипповной на обед.
— Да, хорошее было время, — ровным, спокойным голосом ответил Андропов. — Но сейчас, Михаил, я должен отказаться от приглашения.
— Почему? — удивился я.
— Потому что завтра же начнутся пересуды: кто? где? зачем? что обсуждали?
— Ну что вы, Юрий Владимирович! — совершенно искренне попытался возразить я.
— Именно так. Мы с Татьяной Филипповной еще будем идти к тебе, а Леониду Ильичу уже начнут докладывать. Говорю это, Михаил, прежде всего для тебя.
С тех пор желания приглашать к себе или быть приглашенным к кому-либо у нас не возникало. Мы продолжали встречаться со старыми знакомыми, заводили новых, приглашали к себе, ездили в гости к другим. Но не к коллегам по Политбюро и Секретариату.
С трудом вписывалась в новую систему отношений и Раиса Максимовна, которая так и не смогла найти себя в весьма специфичной жизни, как их теперь называют, «кремлевских жен». Близкие знакомства ни с кем не состоялись. Побывав на некоторых женских встречах, Раиса Максимовна была поражена атмосферой, пропитанной высокомерием, подозрительностью, подхалимством, бестактностью одних по отношению к другим.