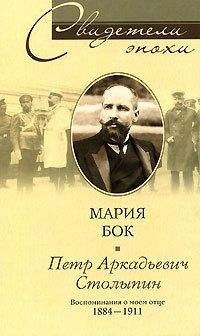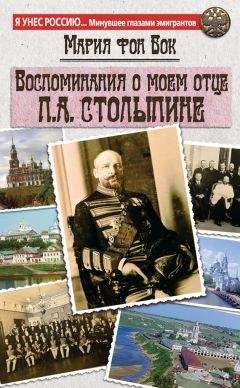М Бок - Воспоминания о моем отце П А Столыпине
На следующий день на аудиенции в Царском Селе папa дал согласие остаться на своем посту, но поставил условием, чтобы Государственный Совет и Государственная Дума были бы распущены на три дня и {327} чтобы за это время законопроект о земстве был бы проведен согласно 87-ой статье. Государь дал на это согласие и, кроме того, уволил обоих виновников провала законопроекта в Государственном Совете в бессрочный отпуск, заграницу.
Папa кончил свой рассказ, когда мы подъезжали к нашей станции, и мы были счастливы, когда взволновавшие нас всех воспоминания сменились мирными впечатлениями сельской жизни. Папa еще не знал нашего дома и мы были особенно рады, что он посещает нас в Довторах. Было это в начале Страстной недели. Накануне было еще холодно, небо было серое и от еще неоттаявшей земли тянуло сыростью. А к приезду папa вдруг, как по мановению волшебного жезла, картина сразу изменилась.
Засияло солнце. Мигом просушило оно своими горячими лучами землю, защебетали и запели птицы, запахло талой землей, тут и ,там стали появляться зеленая травка и первые лиловые цветочки.
Это было так неожиданно и так отрадно, что папa, как и мы, вздохнул, казалось, полной грудью и, сидя на балконе или гуляя по саду, любовался ни с чем несравнимой картиной воскресения природы, забывая на время тяжелую борьбу и труды.
У нас гостила тогда Мириам, та самая американка, разговор которой с государем так рассмешил его. С папa же приехал его любимый чиновник особых поручений, Яблонский, удивительно толковый, расторопный и живой.. Он был, по выражению папa, всегда и везде "на высоте своего призвания". Мы все вместе очень много гуляли, ездили с папa верхом, а вечером, уютно сидя в нашей деревенской гостиной, учили папa играть в бридж, что его очень забавляло.
Как чудный сон пролетели эти четыре весенние дня, которые папa провел в Довторах. Войдя в наш дом, он сказал:
{328} - Это мамa придумала, что я отдохну лучше всего у своих детей.
А, уезжая, его последними словами были:
- Да, я, действительно отдохнул и так счастлив, что знаю вашу жизнь.
По дороге он говел в Риге и к Пасхе был уже дома, в Петербурге.
{329}
Глава XL
Ранним летом переехали мы в Пилямонт, где намеревались провести 2-3 месяца, по соседству от Колноберже. Это лето, последнее в жизни папa, всё было какое-то другое, чем предыдущие. С детства не видала я папa настолько близким к нам всем, как теперь, и, вместе с тем, никогда не видала я его таким утомленным.
По-прежнему все нити, управляющие внутренней жизнью огромной Российской Империи, сходились в его руках; как и в предшествовавшие годы, разносил день и ночь работающий в Колноберже телеграф распоряжения и приказы на тысячи верст. Но когда я присматривалась ближе к моему отцу, то видела, что тяжесть, лежащая на его плечах, превышает его силы, что он устал, что ему нужен полный отдых. Он, по-видимому, и сам вполне сознавал это, так как всё, что мог из дел сдал перед отъездом из Петербурга В. Н. Коковцову.
Дядя Александр Аркадьевич Столыпин жил это лето в своем имении Бече, лежащем от Колноберже в шестидесяти верстах. Папa собрался его навестить. Поехали и мы с ним в его вагоне и провели вместе у дяди целый день. Этот чудный летний день оказался последним свиданием обоих братьев.
Мы все, веселясь, играя и гуляя, остались в восторге от всегдашнего гостеприимства дяди и тети и были очень далеки от каких-нибудь мрачных {330} предчувствий, но дядя Саша впоследствии рассказывал мне, что папa в этот приезд говорил с ним о своем здоровьи, чего он так не любил делать, и сказал ему, что чувствуя себя крайне утомленным, дал исследовать себя перед отъездом из Петербурга доктору, который ему и сказал, что у него грудная жаба и что сердце его требует полного и длительного отдыха.
- Постараюсь отдохнуть в Колноберже насколько возможно без вреда для дел, а осенью поеду на юг, - говорил папa, и прибавил:
- Не знаю, могу ли я долго прожить.
В сентябре предполагались в Киеве большие торжества в высочайшем присутствии по случаю открытия памятника Александру II, на которых папa должен был присутствовать, а после них он и хотел поехать на короткий срок к моей тетушке, княгине Лопухиной-Демидовой.
Княгиня Ольга Валерьяновна Лопухина-Демидова жила уже тридцать лет безвыездно в своем имении Киевской губернии Корсунь, когда-то бывшей резиденцией польских королей.
Корсунь славился красотой своего месторасположения, парком и замком, славился даже за границей, откуда приезжали осматривать его туристы. А сама тетушка была одной из самых типичных "grandes dames" старого закала, какую только можно было сыскать на обоих полушариях. Поразительной красоты в молодости, она сохранила до поздней старости правильные, тонкие черты лица и величавую осанку. Женщина редкой доброты, она не смущалась никем и ничем, говорила каждому в лицо правду, не сообразуясь с тем, приятно это ему или нет, но говорила она таким тоном, что ни протестовать, ни обижаться и в голову не приходило.
К моему отцу она относилась с большой любовью, с восторгом преклонялась перед его деятельностью, и {331} очень ждала его приезда из Киева. Но все эти планы неясно рисовались в, казалось, далеком будущем, а пока мы все наслаждались летом, деревней и, главное, возможностью сравнительно часто видеть папa и свободно разговаривать с ним.
Папa много с нами гулял, когда мы приезжали из Пилямонта, и очень охотно беседовал с моим мужем и мною на все интересующие нас темы. Пользуясь этим, я, как в дни детства, обращалась к папa за разъяснением неясных для меня вопросов.
Хотя Распутин в те годы не достиг еще апогея своей печальной славы, но близость его к царской, семье тогда уже начинала возбуждать толки и пересуды в обществе. Мне, конечно, было известно, насколько отрицательно отец мой относится к этому человеку, но меня интересовало, неужели нет никакой возможности открыть глаза государю, правильно осветив фигуру "старца"! В этом смысле я и навела раз разговор на эту тему. Услышав имя Распутина, мой отец болезненно сморщился и сказал с глубокой печалью в голосе:
- Ничего сделать нельзя. Я каждый раз, как к этому представляется случай, предостерегаю государя. Но вот, что он мне недавно ответил: "Я с вами согласен, Петр Аркадьевич, но пусть будет лучше десять Распутиных, чем одна истерика императрицы".
Конечно, всё дело в этом. Императрица больна, серьезно больна; она верит, что Распутин один на всем свете может помочь наследнику, и разубедить ее в этом выше человеческих сил. Ведь как трудно вообще с ней говорить. Она, если отдается какой-нибудь идее, то уже не отдает себе отчета в том, осуществима она или нет. Недавно она просила меня зайти к ней после доклада у государя и передала свое желание о немедленном открытии целой сети каких-то детских приютов особого типа. На мои возражения, что нельзя такую {332} работу осуществить моментально, императрица сразу пришла в страшное волнение, нервно, со слезами в голосе стала повторять:
- Mais comprenez-moi done, ces malheureux enfants ne peuvent pas attendre; cela doit etre arrange toute de suite, tout de suite (Но, поймите меня, несчастные дети не могут ждать. Это должно быть сделано немедленно, немедленно.).
Видя, насколько она возбуждена, мне только оставалось ответить:
- Je ferai mon possible pour satisfaire le desire de Votre Majeste (Я сделаю всё возможное, чтобы удовлетворить желание Вашего Величества.).
- Ведь ее намерения все самые лучшие, но она действительно больна.
В другой раз папa говорил мне:
- Какая разница между императрицей Александрой Федоровной и ее сестрой. Великая княгина Елизавета Федоровна, - это женщина не только святой жизни, но и женщина поразительно энергичная, логично мыслящая и с выдержкой, доводящая до конца всякое дело. Займется она, например, каким-нибудь брошенным ребенком, так можешь быть уверена, что она не ограничится тем, чтобы отдать его в приют. Она будет следить за его успехами, не забудет его и при выходе из приюта, а будет дальше заботиться о нем и не оставит его своим попечением и когда он кончит учение. Это женщина, перед которой можно преклоняться.
И этим летом, как это бывало всегда с самого моего рождения, посещали Колноберже все наши старые друзья и соседи, но в этот последний год и папa побывал у всех, чего он в предыдущие годы не делал. - "Будто хотел со всеми проститься", - говорила {333} впоследствии мамa.
Он всех посетил, всех обласкал, интересуясь жизнью каждого. Отцу Антонию привез даже в подарок красивую чернильницу из Петербурга. Очень наш батюшка этой чернильнице обрадовался, берег ее, как зеницу ока, и это была первая вещь, о которой он подумал, когда надо было, при приближении во время войны немцев, бежать из Кейдан. Но старенький отец Антоний так растерялся в день, когда надо было ему покинуть дом, в котором он прожил свыше сорока лет, что не нашел лучшего места для "драгоценной" чернильницы как под креслом в гостиной! Приехав в Петербург, он рассказывал, как ее хорошо запрятал под длинный чехол кресла. А как батюшка наш был по возвращении в Кейданы, после войны, горько разочарован, не найдя чернильницы!