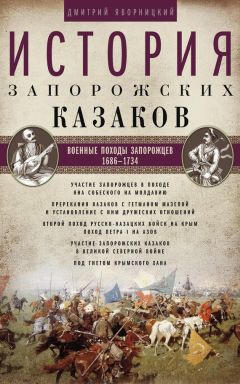Йоахим Радкау - Природа и власть. Всемирная история окружающей среды
Питьевую воду горожане долгое время получали, как правило, из частных или соседских колодцев. Однако на исходе Средних веков отчетливо возрастает роль общественных источников, как и вообще гидростроительная активность коммун. Городские колодцы, часто оформленные как произведения архитектурного искусства, становятся конкретным воплощением общего блага, охраняемого городскими властями. В XIV веке в немецких городах начинается «эпоха водяных искусств»: централизованного снабжения с водокачками, водонапорными башнями и водопроводами (см. примеч. 140).
Сегодня легко забывается, что когда-то не только Венеция, но и многие другие города нередко страдали от наводнений. Города нуждались в реках как в транспортных путях, и потому большинство древних городов располагались на берегах если не морей, то рек. Но во время таяния снега или длительных дождей река становилась опасной. Отдельные проблемы уже тогда выходили за пределы коммунального уровня принятия решений. Такие загрязнители вод, как ремесленные предприятия, особенно кожевенные и красильные, должны были располагаться ниже города по течению реки, но в период экономического роста экстернализация сточных вод рано или поздно входила в коллизию с интересами других водопользователей.
В гигиеническом отношении древние города с их плотной застройкой могут восприниматься лишь как затяжной кризис. Для избавления от фекалий не было чистоплотных решений. После санаций (реконструкции и модернизации), проведенных в Новое время, на грязь и зловоние древних городов постоянно ссылаются как на убедительное доказательство бескультурья и притупленности чувств людей того времени. Однако в последнее время картина средневекового менталитета подверглась в этом отношении изменениям. Тогдашние носы по своей чувствительности не сильно отличались от современных, зловоние – ни в коем случае не конструкт эпохи модерна. Более того, «дурной воздух» в древней этиологии играл несравнимо большую роль, чем в современной медицине. Безусловно, в Средние века людям хотелось иметь отхожее место с проточной водой для смыва, избавлявшее от дурных запахов. Тот, кто мог себе это позволить и располагал надлежащим водным источником, уже тогда устраивал себе «ватерклозет». Об этом свидетельствует крупное несчастье, случившееся в 1184 году во дворце Эрфуртского епископа: когда под весом толпы, собравшейся по поводу королевского визита, рухнуло одно из междуэтажных перекрытий, люди провалились в сточные воды под зданием, и некоторые из них захлебнулись в протекавшей под дворцом реке! (См. примеч. 141.)
Было общим местом, что воздух города дарил свободу[148], но не был ни благоуханным, ни здоровым. Владельцы сельских поместий при наступлении эпидемий бежали из городов. Смертность в городах нередко превышала рождаемость, и часто города выживали лишь благодаря постоянному притоку людей из деревень. Иоганн-Петер Зюсмильх – ученый, в XVIII веке заложивший основы немецкой демографии, называл города «подлинным бедствием для государства», и не только за исходящую из них аморальность, но и за их вред для здоровья. Хуже всего дело обстояло в самых крупных городах: доктор Гуфеланд[149] в 1796 году проклинал их, называя «открытыми могилами человечества» (см. примеч. 142).
Остается открытым вопрос, почему горожане уже в древности не принимали энергичных мер по санации своих городов, тем более что их жизнь подлежала самым разнообразным правилам. Очевидно, основная проблема состояла в том, что большая чистоплотность потребовала бы большего расхода воды, а пока люди носили воду в кувшинах из колодцев, было совершенно естественным ее экономить. Если бы все горожане, подобно епископу, ставили свои уборные над городским ручьем, он вскоре превратился бы в сточную канаву. Но возможно, была и другая причина: скапливавшиеся в домах экскременты были потенциальным удобрением – ценностью, которую многие домовладельцы не желали вывозить вон без уважительной причины. Пока человек владел землей и сохранял хотя бы долю крестьянского менталитета, он предпочитал иметь собственную навозную кучу или углублять уборную. Но тогда можно было дойти до грунтовых вод и заразить колодцы. Правда, об этих коварных подземных потоках люди могли в то время разве что догадываться. Вывод немецкого историка Ульфа Дирлмайера (1938–2011) содержит как минимум частичную правду: «Не леность и равнодушие вредят пригородным грунтовым водам и поверхностным водоемам, а сознательные и эффективные методы устранения отходов, безопасные для ближайшего окружения домов…» Сначала преобладала тенденция держать проблему избавления от отходов в пределах дома и ближайших соседей, полностью она стала функцией коммун лишь в Новое время. В средневековом Базеле, где рвы для сточных вод называли Dolen, соседи объединялись в Dolen-сообщества. В Штутгарте, где Dolen достигали глубины в человеческий рост, они, напротив, обслуживались за счет города (см. примеч. 143). Канализационные проекты индустриальной эпохи стали прямым продолжением прежней доиндустриальной традиции.
Какую роль играли города в истории леса? Снабжение древесиной сильно зависело от того, стоял ли город на реке, по которой шел массовый плотовой или молевой сплав. Транспорт леса по воде легко попадал под городскую юрисдикцию. Но тогда возникала конкуренция с другими городами, расположенными на той же реке. На воде лес становился товаром, более или менее подчиненным свободному рынку. Поэтому городу предпочтительнее было использовать пригородные леса, на которые распространялись старые права и не имелось серьезных конкурентов. Но перевозка леса по суше была очень трудна и имела смысл только на коротких расстояниях. Многие города средневековой Священной Римской империи, включая Верхнюю Италию, владели собственными лесами или приобретали их. Правда, эти леса не только поставляли дрова, но и не в меньшей степени служили пастбищами. Ценный строевой лес выдерживал и более дальние перевозки. Этим объясняется, что леса в окрестностях старых городов часто производили жалкое по современным меркам впечатление.
Историки лесов и лесного хозяйства обычно пренебрегают лесным хозяйством городов (см. примеч. 144). Но такая оценка пристрастна и делается с точки зрения земельных лесных администраций, измерявших ценность лесов по их коммерческой стоимости и производству строевой древесины. Городские леса использовались преимущественно по принципу натурального хозяйства, то есть потребности горожан имели приоритет перед экспортом. Это относится даже к такому городу, как Нюрнберг, одному из ведущих торговых и промышленных центров старой Империи, который – крайне необычно для торгового города! – не владел судоходной и сплавной рекой и в снабжении лесом полностью зависел от двух близлежащих имперских лесов, на пользование которыми и на контроль над которыми добился обширных прав. Даже такой город не осуществлял в своих лесах, как ожидалось бы сегодня, целенаправленную политику поддержки промышленности, а уже с XIV века, наоборот, выдавливал из них пользователей промышленного масштаба. После 1460 года Нюрнберг – настоящий оплот металлообработки, располагал свои зейгеровальные предприятия[150], на которых получали серебро и медь, в Тюрингенском лесу, чтобы сохранить имперские леса вокруг города. Более того, в 1544 году город запретил заготовки дерева в имперских лесах латунным, проволочным, плавильным заводам и другим промышленникам, «кто использовал много огня», и вплоть до XVIII века постоянно возобновлял этот запрет.
Королевские запреты на сведение лесов начала XIV века издавались под давлением городов и служили средством «вернуть доверие крупных городов как партнеров Короны против набирающих силу владетельных князей». Французские регенты в своей лесной политике также проявляли иногда такое уважение к интересам городов, что формировали с ними единый союз против промышленности. В 1339 году Дофин распорядился разрушить кузнечные и плавильные печи в одной из долин Дофине, чтобы обеспечить лесом Гренобль. В целом количество письменных свидетельств о защите городских лесов, так же как и о защите вод, заметно возрастает в Позднем Средневековье. Это объясняется не только давлением самих проблем, но и тем, что в это время повсюду возрастает стремление городских властей к регламентации (см. примеч. 145).
Отношения города с его окрестностями, безусловно, содержали элементы кризиса. Но надо помнить о том, что, в отличие от великих азиатских метрополий, доиндустриальные европейские города всей своей структурой были настроены не на гигантский рост, а на самоограничение. Этому соответствовали не только городская стена, но и основной принцип старого города – сообщества личностей, стремившегося к расширению лишь в определенных условиях и на определенное время, ведь оно старалось избегать конкуренции. В таких условиях ограниченность ресурсов была элементом не кризиса, а стабилизации уже существующих структур. Поэтому города, вопреки всему, обладали экологической устойчивостью. По-настоящему крупные города развивались как города-резиденции: их рост обусловлен прежде всего политикой, а не экономикой. «Протоиндустриальный» экономический рост осуществлялся скорее в сельской местности, чем в городах, и соответствовал децентрализации природных ресурсов. В доиндустриальной Западной и Центральной Европе город, как правило, далеко не так деспотически господствовал над сельской местностью, как в высоких культурах Азии. Проблемы снабжения лесом в целом производили выравнивающий эффект: они тяжелым бременем ложились на крупные города, но благоприятствовали лесистым периферийным регионам. Рост энергоемкой промышленности регулярно порождал волны ужаса в связи с нехваткой леса. Большинство городских властей «деревянного века» сочли бы абсурдом искать счастье своих городов на пути безудержного роста «огневых ремесел»!