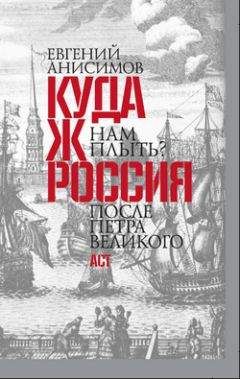Евгений Анисимов - Россия без Петра: 1725-1740
Читая письма Анны, видишь, что для нее подданные — государственные рабы, судьбой, жизнью, имуществом которых она распоряжалась по своему усмотрению:
«Изволь моим указом сказать Голицыной — «сурмленой глаза» (кличка. — Е. Α.), чтоб она ехала в Петербург, что нам угодно будет, и дать ей солдата, чтоб, конечно, к Крещенью ее в Петербург поставить или к 10 января» (декабрь 1732 года).
«Прислать Арину Леонтьеву с солдатом, токмо при том обнадежите ее нашею милостию, чтоб она никакого опасения не имела и что оное чинится без всякого нашего гневу» (8 февраля 1739 года).
Анну — человека переходной эпохи — тянуло прошлое с его привычками, нравами. Мир ушедшей, казалось, навсегда «царицыной комнаты» стал постепенно возрождаться в Петербурге. Старые порядки появлялись как бы сами собой, как ожившие воспоминания бывшей московской царевны, разумеется с новациями, которые принесло время. По документам видно, как Анна собирает свою «комнату». Тут и старушки-матушки, и тщательно подобранные шуты, тут и девочки с Кавказа («Отпиши Левашову (главнокомандующий русскими войсками в Персии. — Е. Α.), чтоб прислал 2 девочек из персиянок или грузинок, только б были белы, чисты, хороши и не глупы» — из письма С. Салтыкову за 1734 год), тут и две «тунгузской породы девки», отобранные у казненного иркутского вице-губернатора А. Жолобова.
Как и у матушки-царицы Прасковьи Федоровны, у Анны появились свои многочисленные приживалки и блаженные с характерными и для прошлого века именами: Мать-Безножка, Дарья Долгая, Девушка-Дворянка, Баба-Катерина. Воспоминаниями об измайловском детстве веет из писем к Салтыкову: «Поищи в Переславле из бедных дворянских девок или из посадских, которая бы похожа была на Татьяну Новокрещенову, а она, как мы чаем, уже скоро умрет, то чтобы годны ей на перемену; ты знаешь наш нрав, что мы таких жалуем, который бы были лет по сорока и так же б говорливы, как та, Новокрещенова, или как были княжны Настастья и Анисья Мещерская»22.
Конечно, не только «собиранием комнаты» и забавами шутов тешилась русская императрица. На нее в полной мере распространялась харизма самодержцев. Она тоже претендовала на роль «Матери Отечества», неустанно заботившейся о благе страны и ее подданных. В указах это называлось: «О подданных непрестанно матернее попечение иметь». В день рождения императрицы, 28 января 1736 года, Феофан Прокопович произнес приветственную речь, в которой, как сообщали на следующий день «Санкт-Петербургские ведомости», подчеркивал, что приятно поздравлять того, «который не себе одному живет, но в житии своем и других пользует и тако и прочим живет». А уж примером такой праведной жизни может быть сама царица, «понеже Е. в. мудростью и мужеством своим не себе самой, но паче всему Отечеству своему живет». Как не вспомнить Евгения Шварца: «Говори, говори, правдивый старик!»
Однако императрица понимала свою роль не так возвышенно, как провозглашал златоуст Феофан. Она ощущала себя скорее рачительной и строгой хозяйкой большого поместья, усадьбы, где для нее всегда были дела.
Очень нравилась императрице роль крестной матери, кумы, но все же особенно любила она быть свахой, женить своих подданных. Речь не идет об обычном, традиционном позволении, которое давал (или не давал) самодержец на просьбу разрешить сговоренную свадьбу. Анна такие высочайшие позволения также давала, но в данном случае имеется в виду, что императрица сама выступала свахой. И, как понимает читатель, отказать такой свахе было практически невозможно.
Лишь нечто из ряда вон выходящее могло помешать намеченному императрицей браку. «Сыскать, — пишет Анна Салтыкову 7 марта 1738 года, — воеводскую жену Кологривую и, призвав ее себе, объявить, чтоб она отдала дочь свою за [гоф-фурьера] Дмитрия Симонова, которой при дворе нашем служит, понеже он человек добрый и мы его нашею милостию не оставим». Через неделю Салтыков отвечал, что мать невесты сказала, что «с радостию своею… и без всякаго отрицания отдать готова», но дочери ее лишь 12 лет. Но обычно сватовство Анне удавалось. Вообще все, связанное с браком и амурными делами ее подданных, страшно интересовало императрицу, готовую при случае просто припасть к замочной скважине.
Интересы императрицы-сплетницы вообще чрезвычайно обширны и разнообразны. По ее письмам легко представить себе источники информации — в основном сплетни и слухи, которые, к великой радости повелительницы, приносили на хвосте ее челядинцы: «уведомились мы…», «слышала я…», «слышно здесь…», «слышали мы…», «чрез людей уведомились…», «известно нам…», «пронеслось, что…» и т. д. Благодаря этому оригинальному и вечному источнику информации создается забавное впечатление, что императрица, как бы пронзая взглядом пространство, видит, что «у Василья Федоровича Салтыкова в деревне крестьяне поют песню, которой начало: „Как у нас, в сельце Поливанцове, да боярин от-дурак: решетом пиво цедил“», что «в Москве, на Петровском кружале, стоит на окне скворец, который так хорошо говорит, что все люди, которые мимо едут, останавливаются и его слушают», что некто Кондратович, который «по указу нашему послан… с Васильем Татищевым в Сибирь, ныне… шатается в Москве», что «в украинской вотчине графа Алексея Апраксина, в деревне Салтовке, имеется мужик, который унимает пожары», что «есть в доме у Василья Абрамовича Лопухина гусли». Естественно, императрица немедленно требует гусли, «увязав хорошенько», прислать в Петербург, так же как и слова песни, скворца и мужика, а Кондратовича, как и многих других, за кем присматривает рачительная хозяйка, отправить на службу.
То мелочное, что было присуще характеру Анны Ивановны, проявлялось и в том, как жестоко преследовала она своих политических противников. 24 января 1732 года она предписывает послать в тамбовскую деревню к опальным Долгоруким унтер-офицера, чтобы отобрать у них драгоценности, причем особо подчеркивает: «Также и у разрушенной (так презрительно называли невесту умершего императора Петра II — Екатерину Долгорукую. — Е. А.) все отобрать и патрет Петра Втараго маленькой взять»23.
Поручение было исполнено, и вскоре мстительная царица могла перебирать драгоценности и Долгоруких, и Меншикова (которые потом Анна Леопольдовна отнимет у Бирона, а потом у Анны Леопольдовны заберет камушки Елизавета).
Не прошло и года, как Анну стали мучить сомнения — все ли изъято у Долгоруких, не утаили ли они чего? И вот 10 апреля 1733 года Семен Андреевич получает новый приказ: «Известно Нам, что князь Иван Долгорукий свои собственные пожитки поставил вместе с пожитками жены своей (Наталии Борисовны Долгорукой, урожденной Шереметевой. — Е. Α.), а где оные стоят, того не знают. Надобно вам осведомиться, где у Шереметевых кладовая палата, я чаю, тут и князь Ивановы пожитки». Причем Анна приказывала не афишировать эту акцию, а служащего Шереметевых «с пристрастием спросить, чтоб он, конечно, объявил, худо ему будет, если позже сыщется». Более того, все слуги после обысков и допросов были вынуждены расписаться, «что оное содержать им во всякой тайности» под угрозой смертной казни.
Вообще-то шарить, когда вздумается, по пыльным чуланам своих подданных, проверять их кубышки и загашники принято у наших властей издавна, а уж Анне с ее привычками и сам Бог велел. «Семен Андреевич! Изволь съездить на двор [к] Алексею Петровичу Апраксину и сам сходи в его казенную палату, изволь сыскать патрет отца его, что на лошади написан, и к нам прислать (хорош вид у обер-гофмейстера Двора Ея императорского величества, генерал-аншефа, кавалера, графа и «главнокомандующего Москвы», который лезет в темный, пыльный чулан и копается среди рухляди! — Е. Α.), а он, конечно, в Москве, а ежели жена его спрячет, то худо им будет».
Подглядывать и подсматривать за подданными, как и читать их письма, было подлинным увлечением императрицы. Узнав о каких-либо злоупотреблениях, Анна распоряжалась не расследовать их, а вначале собрать слухи и сплетни: «Слышала я, что Ершов, келарь Троицкой, непорядочно в делах монастырских, и вы изволь, как возможно, тайным образом исти проведать и к нам немедленно отписать» (27 июля 1732 года).
В других случаях императрица-помещица предпочитала просто ради профилактики пригрозить забывшимся холопам-подданным. Примечательно письмо Салтыкову от 11арта 1734 года по поводу некоего попа, который донес на своего дьякона прямо Анне, минуя московские инстанции: «…ты попа того призови к себе и на него покричи… Разыщите о последнем без всякой поноровки кто будет виноват, мне ничто ино надобно, кроме правды, а кого хочу пожаловать, в том я вольна».
Чем не Иван Грозный: «Жаловать есь мы своих холопов вольны, а и казнить вольны же». И не важно, что между ними пролегло более полутораста лет, — принцип самодержавия был прочно впечатан и в скромные мозги бывшей Курляндской герцогини. И действительно, она была вольна поступать с людьми, как ей заблагорассудится. Вот письмо к Салтыкову, которому даже не объясняется, за что он должен арестовать иноземца Наудорфа и «послать за караулом в Кольский острог, где его отдать под тамошний караул и велеть употребить в работу, в какую годен будет, а на пропитание давать ему по пятнадцати копеек на день»24. Здесь мы касаемся уже заповедных интересов Анны к сыску.