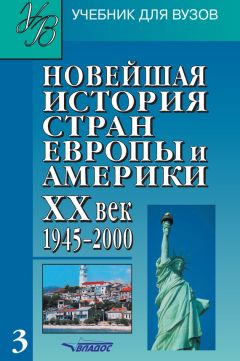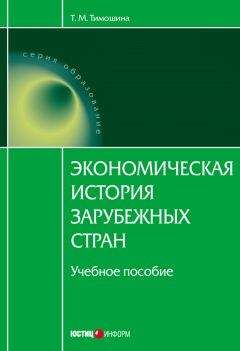Александр Бенуа - Жизнь художника (Воспоминания, Том 1)
Еще одна картинка мне полюбилась чрезвычайно. Она изображала столь значительный в детской жизни момент укладывания спать. В слабо освещенной, уставленной кроватями комнате, "мама" наблюдала за тем, чтобы ее дочки отдали перед спаньем известную "дань природе"; одна уже сидела на горшечке, другая, постарше в ожидании своей очереди стояла рядом, подобрав юбки.
Всё это мне казалось выхваченным из нашей же жизни, причем, разумеется, ничего предосудительного мне в голову не могло придти, - до того всё было здесь знакомо и обыденно.
Были среди огромной коллекции стереоскопических карточек дяди Кости и довольно пикантные сюжеты. Для взрослых, для понимающих, они, пожалуй, представляли собой известный соблазн, но мне, "не понимающему", они тогда казались просто более скучными, чем другие. Почти все они изображали дам не очень привлекательных, с лицами очень обыденными. Эти дамы то отдыхали на диване, то читали книжку, то причесывались перед зеркалом, причем каждый раз оголены были руки, плечи, грудь, а из-под высоко задравшейся юбки, виднелись ноги в белых чулках и прюнелевых башмачках. Это был типичный "Артикль де Пари" - товар, который привозили с собой и очень солидные люди вроде дяди Кости, в память о веселых днях, прожитых на берегах Сены или хотя бы - рассказов об этих днях.
Много много раз я видел всё те же картинки, которые когда-то были вставлены в стереоскопический аппарат и с тех пор не менялись; я не подозревал, что данная серия может быть заменена другими изображениями, что у дяди припрятаны еще целые массы их. Но как-то раз меня ожидал сюрприз - все картинки в аппарате оказались невиданными и тогда тетя Катя открыла секрет, как эта замена производится. С тех пор я уже стал требовать всё новых и новых картинок и не успокаивался, пока мне таковые не вынимали с заповедной этажерки в кабинете. Вскоре я сам выучился вставлять картинки в предназначенные для них проволочные рамочки, приделанные к вращавшемуся турникету, и с этого дня, передо мной ставился весь, снятый с этажерки ящик с его богатствами, я же до одурения разглядывал эти чудеса. Теперь я не только уже не звал мамы домой, но и сердился, когда меня отрывали от этого занятия.
Возникшая тогда у меня стереоскопная мания осталась затем на всю жизнь. Впоследствии я составил свою собственную коллекцию карточек, во много раз превосходившую дядину, а когда я стал заниматься фотографией, то первым долгом приобрел себе два съемочных стереоскопических аппарата, благодаря которым моя коллекция значительно обогатилась изображениями нашей семейной жизни, а также видами наших загородных дворцов и садов. Все эти драгоценнейшие документы, я увы, не мог взять с собой в эмиграцию тогда, как, повторяю, "спящую киску", "девочек за чаем" и "девочек, ложащихся спать" я взял и эти картинки по сей день в любой момент позволяют мне окунуться в наслаждение, подобное тому, которое я познал, когда мне было пять лет. Пожалуй, в проснувшемся тогда инстинкте разглядывания изображений, более чем в чем-либо другом, впервые выразилось мое живописное призвание.
В отдаленные годы моего детства (до 1880 года), дядя Костя оставался для меня фигурой относительно далекой. Встречал я его не более раз в месяц и почти всегда на каком-либо семейном обеде, то у нас, то у дяди Сезара. У себя же дядя Костя в те годы обедов не устраивал, вероятно, из экономии. Крайне редко встречал я и его дочь, мою кузину Олечку, "гостившую" у себя дома лишь во время рождественских каникул. 25-го декабря устраивалась крошечная, сохранявшаяся из года в год, искусственная елочка, а самое празднование происходило в формах крайне интимных и скромных, не то, что у нас или у других родственников и знакомых.
В связи с "черным ходом" и это способствовало тому, что я был невысокого мнения о средствах дяди Кости. Летом он нанимал в Петергофе дачу, а Олечка ходила в самых простеньких платьицах, ничем не отличаясь от своих кузин Кампиони Жени и Маши, родители которых были людьми скромными и мало зажиточными.
Наконец, и то, что дядя Костя при всяком случае рекомендовал соблюдение чрезвычайной расчетливости, не свидетельствовало в моем представлении об его богатстве. Запомнился мне такой глупейший, но всё же характерный случай. Как-то в Петергофе, зайдя к нам рано утром, он взял меня с собой пройтись в соседний Английский парк. Прогулка, проведенная в столь необычайный час, получила удивительное вознаграждение. Не успели мы зайти за чугунные "готические" ворота парка и сделать шагов тридцать, как мое внимание было обращено на что-то блестевшее у самой дороги в траве. Оказалось, что то блестит металлическая ручка очень хорошенькой, совсем новенькой детской тросточки - как раз мне, шестилетнему, по росту. Я был в восторге от своей находки, дяденька же, совсем как в нравоучительной книжке для детей, счел своим долгом прочесть целую мораль: "Ты видишь, мой друг (иначе, как "мой друг" дядя ни к кому из близких не обращался, не делая разницы ни по полу, ни по возрасту), ты видишь, как полезно рано вставать.
Мы вошли в парк первыми и вот нашли эту вещь. Если бы пришли позже, то ею воспользовались бы другие" и т. д. в том же роде. Долгое время после этого я оставался при убеждении, что по утрам улицы бывают усеяны потерянными драгоценностями и что мусорщики, подбирая их, становятся со временем "ужасно богатыми" людьми.
От дяди Кости слышал я и нравоучительный рассказ о том, с чего началась карьера тогдашнего богача, "русского Ротшильда" - барона Штиглица. В юности Штиглиц будто бы очень нуждался и тщетно искал себе заработка. Однажды он явился к одному банкиру, у которого в банке открылась вакансия, но банкир не пожелал брать человека без всякой рекомендации, и бедный Штиглиц покинул подъезд банкира, убитый своей неудачей. И тут-то и случилось то, что произвело полный поворот в его фортуне. Несмотря на всё свое огорчение, Штиглиц заметил лежавшую на мостовой булавку, нагнулся, поднял ее и аккуратно засунул себе за отворот сюртука. Банкир всё это увидел в окно и вынес сразу столь выгодное впечатление о достоинствах молодого человека, главным образом, об его бережливости, что позвал его обратно и для пробы дал ему какую-то бухгалтерскую задачу. Штиглиц прекрасно с ней справился; через два дня он уже сидел в конторе, принимая участие в "общей работе", а в дальнейшем он получил ответственное место в том же банке, после чего он взобрался по всем ступеням финансовой иерархии и стал самостоятельным банкиром и миллионером, одним из самых богатых людей не только в России, но и на всем свете. И еще другой, не менее нравоучительный и не менее наивный рассказ я слышал от дяди Кости на сей раз об известном кондитере в Петербурге - Ландрине.
Фабрика Ландрина стояла на том же Екатерингофском проспекте, на который выходил одним фасадом и наш дом. Она была мне хорошо знакома по упоительным запахам шоколада и всяких сластей, соблазнительно ласкавших мое обоняние, когда я проходил мимо. Явился Ландрин в Петербург босоногим нищим мальчишкой, но изворотливый его ум, а еще более выдержка и, главное, бережливость помогли ему в несколько лет составить весьма значительное состояние. Начал он с того, что коптил сахар на свечке и получавшиеся таким образом леденцы продавал на улице. Леденцы его имели успех и постепенно доставили ему известность. Но долгие годы Ландрин не позволял себе отходить от своего первоначального образа жизни, он только копил и накапливал, пока нажитое не составило сумму, давшую ему возможность сначала открыть лавку, а там обзавестись и фабрикой. И снова дядя Костя на этом примере настаивал на необходимости придерживаться принципа бережливости. Увы, эти семена попадали на неблагодарную почву. Его племянник так делового отношения к жизни и не приобрел, а остался в финансовом отношении сущим калекой и уродом, о чем он искренне и постоянно сожалеет.
И вот внезапно произошла радикальная перемена во всей манере дяди Кости. Случилось это в 1880 году, в момент, когда Оля окончила институт и, как говорили в старину, "заневестилась". Дядя выразил желание поселиться в нашем доме, на одном этаже с нами, и это так соблазнило маму, что она решилась на шаг, который показался бы немыслимым при других обстоятельствах. Ей пришлось попросить стародавних жильцов и к тому же наших хороших знакомых, Свечинских, "очистить место". Но дяде Косте оказалась мала их довольно поместительная квартира и пришлось выселить еще и жильцов рядом со Свечинскими. Всю амфиладу комнат стали сразу, в летние месяцы, отделывать и уже осенью того же года дядя мог въехать в свое новое обиталище. Жертвой этого переустройства стала между прочим прелестная, украшенная колоннами, гостиная Свечинских, так как из нее, с прибавлением соседней комнаты, была образована большая зала, настолько обширная, что в ней, в одну из следующих зим, можно было соорудить сцену для домашнего спектакля.