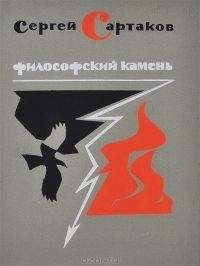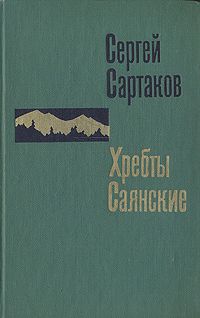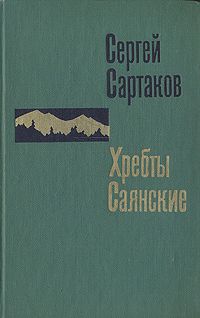Сергей Сартаков - Свинцовый монумент
Вот он, Андрей, тоже ходит в библиотеку, в читальный зал. Но ему, между прочим, никаких прозрачных крылышек, сквозь которые светит солнце, у Ольги не видится. Очень красивая, голос мягкий, негромкий, всегда улыбается, одета чистенько. Чем не жена для Мирона? И ему, младшему брату, перед кем хочешь похвастать будет не грех. Но таких слов, как у Мирона, ему не подобрать. Откуда у него они берутся? Будто вслух Шекспира читает. Может, и начитался? Ольга-то библиотекарша. Подбирает ему о любви самые лучшие книги.
- Знаешь, а я, пожалуй, возьму штук десять твоих картинок. Самых разных, - сказал Мирон. - А то и вправду можно дело так повернуть, что в них какие-то намеки. В пчеле, стрекозе или бабочке. Главное, показать, как ты умеешь рисовать пером. Не маляр со щеткой.
- Тебе что, за маляра стыдно? - Андрей не понял, всерьез или в шутку сказал Мирон. - А как тогда с топором плотник?
- Не то, не то, Андрейка. Не обижайся, я сейчас совсем о другом думал. О тонкости дела, которую каждому нужно достичь. Олечка как раз не с плотником, а с человеком гулять ходит. Кем я работаю, она с первого дня знает. - И заторопился: - Пойду попрошу маму, чтобы рубашку погладила. Эх, обед бы поскорее! Солнце будто гвоздем к небу прибито, совсем не движется.
Но солнце все же подвинулось. Наступило обеденное время. И в конце его усатый кот над циферблатом часов, лукаво постреливая из стороны в сторону желтыми глазами, определил для Мирона тот момент, когда непременно следовало подняться из-за стола, даже не допив стакан киселя.
- Роня, куда же ты? - воскликнула мать. Она не любила, когда вот так, не дожидаясь старших, кто-нибудь из сыновей вскакивал с набитым ртом. Андрей! А ты?
- Мама, я опаздываю, - сказал Мирон, - я скоро вернусь.
- И я тоже, - сказал Андрей, памятуя, что он должен потихоньку вынести цветы.
- Спасибо даже забыли сказать! - вдогонку им сердито крикнула мать.
- Спасибо! - из сеней отозвался Андрей.
Мирон быстро переодевался. Руки у него вздрагивали, застегивая воротник, он никак не мог попасть пуговицами в петли, косо заправил рубашку в брюки, и Андрей помог ему привести себя в порядок. Спросил в недоумении:
- Да что с тобой?
- Ничего, брат Андрей, ничего... Нельзя же, чтобы Олечка раньше меня пришла.
- Когда вас ждать?
- Не знаю... Не знаю... Ну что ты спрашиваешь? К ужину! Иди скорей за ворота.
Андрей понял: Мирон боится, что выйдут в сени отец или мать, увидят кувшинки. И начнутся расспросы, а всякое лишнее слово Мирону сейчас тяжело выговаривать - волнение горло сдавливает.
"И чего он так? - подумал Андрей, послушно выбегая за ворота с букетом и пытаясь проникнуться настроением брата. - Гулял он в саду и вчера со своей Ольгой, и завтра опять же встретятся, и потом будут вместе вообще каждый день. А тут прямо побелел весь. Неужели так страшно ему сказать Ольге эти слова? Один ведь раз только их выговорить".
И когда Мирон, щеголевато одетый, в новом костюме, поскрипывающих ботинках, в то же время словно бы потерявший обычную свободную осанку, скрылся за углом, Андрей покрутил головой. Вспомнились недавние слова отца о том, что у каждого человека совесть своя, и не объяснить, кому ее веления пушинка на плечах, а кому - бревно лиственничное. Вот, наверно, и любовь тоже. Мирону досталось от корня, комлистое бревно. Ну ничего, он донесет. А когда скажет Ольге те самые слова, так и земли под ногами не почувствует.
И ему захотелось это как-то изобразить на листе ватмана. На память Мирону и Ольге. Такой особенный день. Обычно Андрей рисовал сразу пером. Теперь он взял остро отточенный карандаш и попробовал набросать сюжет: два человека как бы в полете, стремятся друг к другу навстречу. И удивился. Ничего не получалось. Людей, да еще в движении, он вообще рисовать не умел. В них было все, только не было жизни. А тут и сходства простого с Мироном и Ольгой добиться не мог. Два сладеньких ангелочка, только без крыльев. Без конца он стирал свои наброски резинкой и менял композицию. Выписывал фигуры то крупней, то помельче. Отдельно рисовал их лица анфас и в профиль. Нет, карандаш решительно не слушался художника.
Тогда Андрей схватил свое любимое перо, флакончик туши. Может быть, все дело именно в несмелости? Надо было начинать без всяких предварительных карандашных проб. Раз! Раз! Вот так. Так. И застонал от досады на самого себя: столь беспомощно никогда еще не водила пером его рука. Оно тыкалось в бумагу, оставляло на ней брызги, похожие на фонтанчики, не то чертило жирные полосы, которые потом сливались в крупные кляксы.
Однако сдаваться было не в правилах Андрея.
"Ладно, - подумал он, - не выходит, не надо, я их изображу вместе потом, когда поженятся. А сейчас нарисую кувшинки, из-за которых Мирон едва не утонул. Это даже лучше. Можно и посмеяться, а в то же время хорошая зарубка для памяти".
В ведре оставалось еще несколько белых лилий, помятых, с оборванными лепестками, но для Андрея натура не имела особого значения. Цветы ему всегда удавались на славу. Только бы чуть-чуть поглядывать на них. И на этот раз он справился со своей задачей отлично.
- Вот так! - проговорил он вслух, прикалывая кнопками к стене лист ватмана над изголовьем постели. - Те, что Мирон нарвал, уже сегодня к вечеру завянут, а эти будут красоваться до самой старости, Мироновой и Ольгиной.
Кувшинки он нарисовал в их вольной стихии, плавающими близ камышовых зарослей на озере. Мелькнула было озорная мысль: изобразить тут и Мирона. Но он остановил себя. Человек опять ему не удастся, получится карикатурка на прошедшую ночь. Смех добрый - хорошо, а злого смеха не надо.
Мать вошла, заметила рисунок, ахнула в тихом восторге:
- Ну и руки у тебя золотые! Тебе бы для киношки афиши писать. А то заказывают сапожникам.
И позвала с собой на огород. Сделать пугало. Одолели птицы, расклевывают огуречную завязь. Напяливая на сколоченную Андреем деревянную крестовину изодранное отцовское пальто, мать прерывисто вздохнула:
- Чего-то худо эти дни он себя чувствует. Так вот было и с твоим дедушкой. Не говорит, а все за сердце рукой хватается. Наследственное, что ли, у них? И в поликлинику прогнать никак не могу. Очередей не любит. Докторов не признает. А чем я его вылечу? Осень подходит, если теперь Мирона возьмут, потом и тебя, очень нам трудно придется.
Сияния утренней радости в глазах матери уже не было. Андрей знал: конечно, Мирона возьмут осенью в армию. В прошлый призыв ему дали отсрочку. Тяжело болели и отец и мать, а он, Андрей, тогда еще не достиг совершеннолетия. Нынче, как раз к осени, ему исполнится восемнадцать. На будущий год и ему призываться. Вот тогда как? Совсем одни останутся старики. Без заработка. Только при этом огородике. Иными глазами посмотрел он на расклеванные птицами огурцы.
"Хотя почему одни? Ольга будет с ними", - подумал он. Но никак не отозвался на слова матери. Пусть сам Мирон вечером ее успокоит. Не может быть, чтобы Ольга не перешла в дом к мужу. Тем более что родители Ольги живут на свою зарплату. И хорошую зарплату. Они торговые работники.
Вернувшись с огорода, Андрей занялся чтением. Все свободное время он отдавал рисованию, а больше книгам. Ему нравились толстые, объемистые романы. В них очень убедительно рассказывалось о жизни. Иную такую книгу читаешь недели две и на эти же две недели целиком погружаешься в новый, дотоле тебе неведомый мир страстей человеческих. Каждая книга обязательно что-то тебе открывает, бросает в душу маленькое зернышко, и оно потом всходит светлым, зеленым росточком либо, колючее, впивается надолго острой болью. А все равно хорошо, потому что книгу можно не раз перечитать, подумать над ней, выбрать для себя самое главное. Жизнь, ведь она выбирать ничего не дает, подкидывает, только успевай поворачивайся. А с книгой хорошей ты как-то сильнее, увереннее себя чувствуешь.
Свернувшись калачиком на постели, он читал "Воскресение" Льва Толстого, как раз то место, где Катюша Маслова бежит по мокрым доскам платформы, провожая отчаянным взглядом вагон первого класса, в котором едет сытый, довольный жизнью Нехлюдов. Он читал и сжимал кулаки от ненависти к этому выхоленному красавцу. И когда дошел до слов: "Измученная, мокрая, грязная, она вернулась домой, и с этого дня в ней начался тот душевный переворот, вследствие которого она сделалась тем, чем была теперь. С этой страшной ночи она перестала верить в добро..." - Андрей опустил руку с книгой, ощущая, как холодные мурашки пробежали у него по спине.
"Вот ведь бывают же такие подлые люди, - подумал он о Нехлюдове, представляя, сколь мучительные минуты пережила Катюша, оставшись одна под дождем и ветром, обесчещенная и брошенная, готовая кинуться под колеса поезда. - Но Катя-то, Катя Маслова, почему же она, если по несчастью попался ей в жизни такой подлец, почему же она после этого перестала верить в добро? Один Нехлюдов заслонил ей все человечество. Загадка. И другая. Она ведь любила Нехлюдова. И он тоже, когда у них это случилось, любил ее. Пусть хотя и не очень. А все-таки как же в подлость может любовь превратиться?"