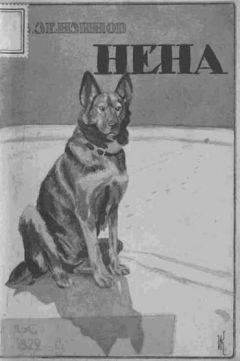Владимир Зензинов - Пережитое
Не могло не быть, конечно, в такой обстановке романов и сердечных увлечений, но я тогда этим не интересовался, даже все это презирал. И повторял где-то услышанную глупую фразу о том, что "в ухаживании есть что-то собачье". Но как могло обойтись дело без этого среди веселой, живой и шумной молодежи? Только много позднее, например, я узнал о "безнадежных романах", которые, оказывается, тогда разыгрывались у меня на глазах. Влюблены были в мою сестру (она была очень привлекательна) два студента - блестящий и интересный Михновский из Иркутска и наш толстый, похожий на сибирского медведя, увалень Коля Очередин. Обоих моя сестра отвергла и вышла замуж за доктора, которого встретила... на Черном море.
Были, вероятно, и другие романы. Помню, что у сестры были интересные подруги - одна блондинка с большими глазами и длинной косой (Давыдова), другая - жгучая брюнетка-еврейка, с ярким румянцем (Гортикова).
Кстати сказать, эту последнюю я потом встретил в Париже, в эмиграции, и мы вместе вспоминали далекие дни. Теперь она была уже матерью двух взрослых сыновей, а от ее красоты ничего не осталось: превратилась в маленькую сгорбленную старушку. Большим успехом пользовалась самая близкая подруга сестры - Бибочка Бари (Анна Александровна), старшая дочь огромного семейства богатого американизированного инженера Александра Вениаминовича Бари, владельца московского завода, на котором выделывались знаменитые тогда "котлы системы инженера Шухова". Бибочка была жизнерадостная полная блондинка, от которой веяло здоровьем и весельем. В нее был безнадежно влюблен мой старший брат Кеша, но об этом знали только мы, его братья, и безжалостно над ним смеялись. Она потом вышла замуж за профессора-физиолога Самойлова.
Поздно вечером, после танцев, был всегда ужин - пироги с рыбой, пироги с мясом, пироги с капустой, разная закуска, маринованные грибы и, конечно, опять чай - много чашек и стаканов чая.
Нас, младших, никогда не прогоняли в наши комнаты, мы, как равноправные, принимали участие во всех играх, оставались до конца с гостями, а за ужином у меня лично была даже своя специальность: я мастерски резал на тонкие, как листки бумаги, ломтики швейцарский сыр. За это мое мастерство студенты мне пророчили карьеру хирурга. Мама довольно улыбалась: она хотела, чтобы я был доктором.
Кроме этих каждосубботних вечеринок, у нас один или два раза в году устраивались и настоящие балы. Иногда даже балы-маскарады (на Рождестве или на Масляной). Тогда приглашали тапера для рояля, пироги и кулебяки заказывались на стороне в кондитерских. Гостей бывало на этих балах человек до 50 и больше - конечно, тоже всё молодежь. Танцевали до упаду всю ночь до утра. Квартира у нас всегда была большая, и танцы устраивались в нескольких смежных комнатах ловкие танцоры вальсировали из одной комнаты в другую. А после кадрили устраивали гран-рон, где все танцующие неслись, держа друг друга за руки, по всем спальным комнатам и через детскую, натыкаясь на стулья, лавируя между столами и по коридорам. Помню, однажды все ряженые были в белых костюмах поваров, с белыми поварскими колпаками - это было очень эффектно и весело. Шуму и смеху было много. Кухарка, судомойка и даже дворник из темной прихожей и из коридора любовались на веселящихся господ...
В семье я был младшим. Кроме сестры, Ани, у меня были еще два брата, оба старше меня. Теперь я остался последним в роде. Мой старший брат Иннокентий (Кеша) умер от туберкулеза в Париже в 1935 году, заполучив эту болезнь в тяжких условиях эмигрантской жизни. Другой брат, Михаил, старше меня на два года, был расстрелян большевиками в 1920 году только за то, что был когда-то офицером (прапорщиком запаса), отбывая воинскую повинность еще при старом режиме; политикой он никогда не занимался. О своей сестре, которая осталась в России, вот уже двадцать лет я ничего не знаю - все мои осторожные попытки что-либо о ней узнать были тщетны.
Было бы с моей стороны несправедливым, рассказывая о родной семье, не упомянуть о нашей няне, потому что в нашей семье она занимала свое место и даже играла в ней заметную роль - она, конечно, тоже была членом семьи. Ведь это так часто бывало в русских семьях.
Войдя в чужую семью, нередко в очень юных годах, няня, ухаживая сначала за одним ребенком, затем за другим, а после и за всеми остальными, делается как бы органическим членом семьи. Она всей душой привязывается к ее жизни, часто забывая или отказываясь от своей собственной. И если она обладает сердцем, характером, она не только оставит след в душе каждого ребенка на всю жизнь, но сделается ценным, а порою и бесценным членом самой семьи, с которой связала свою жизнь и судьбу. Такой именно и была наша Няня - пишу это слово с большой буквы, потому что оно из названия профессии превратилось в нашей семье в имя собственное. Настоящее ее имя было Авдотья (Евдокия) Захаровна Горелова. Сначала мы ее звали просто Дуня, но потом мать нам приказала называть ее не Дуней, а из уважения к ней - Няней. Так потом мы всю жизнь ее и звали, так она и записана в моей душе. Няне было 12 или 13 лет, когда были освобождены крестьяне - значит она была еще крепостной, хорошо помнила крепостное право и рассказывала нам о нем. Хотя, нужно сказать, ничего страшного в ее рассказах не было - она жила при крепостном праве, не замечая его (родом она была из Смоленской губернии). Совсем еще молодой женщиной, это было, вероятно, в 1874 году, она приехала в Москву из деревни на заработки.
У нее только что родился сын, которого она оставила в деревне (кто был ее муж и был ли он в это время еще жив, я не знаю; я знал только ее брата, Гавриила Захаровича, московского "лихача", стоявшего всегда на Большой Дмитровке у Купеческого клуба и приходившего к ней в гости пить чай; это был толстый и большой человек с очень красным лицом, выпивавший в ее комнатке неисчислимое количество стаканов чаю - до седьмого пота, - в этом и заключалось главное угощение сестры).
Естественно было ей, в ее положении, искать место кормилицы в хорошем доме. Она и пришла на Смоленскую площадь в Москве, где в те наивные времена нанимали прислугу и где ее увидел дядя Коля, искавший кормилицу для жены своего брата, т. е. для моей матери, которая ждала своего первого ребенка. Няня в молодости была настоящей русской красавицей, если судить по сохранившейся у нас карточке, на которой она была снята в нашем доме в пышном наряде русской кормилицы с маленькой Маней на руках, старшей моей сестрой, умершей еще ребенком, - с широкими рукавами сарафана, в кружевах и лентах, расшитой рубашке и с бусами в несколько рядов вокруг шеи.
О дяде Коле говорили, что он был ценителем женской красоты - естественно, что он и остановился на Няне для своей невестки. С тех пор Няня всю свою жизнь до самой смерти (в 1908 году) и прожила в нашей семье, не зная никакой другой и не имея даже своей собственной. Она кормила мою старшую сестру, потом выхаживала Аню и по очереди каждого из нас, а позднее выхаживала и детей моей сестры. Она ходила за нами, была при нас неотлучно, сидела у постели, когда кто из детей был болен. Я помню ее с того момента, как помню себя. Вспоминая свои детские болезни, всегда вижу ее у своего изголовья. Под ее шершавой ласковой рукой извиваюсь в своей кровати - она обтирает меня коровьим маслом, разогретым в ложке на свече. Мне щекотно, смешно и горячо и я капризничаю, а она ежится и охает, как будто и ей очень щекотно - и от этого мне становится легче. - "Ох-охонюшки, плохо жить Афонюшке (у нее всегда были какие-то свои деревенские прибаутки, которые нам казались свободными импровизациями)... вот так, вот так, Володюшка... теперь ножки и ручки отдыхают... скоро опять будешь здоровеньким, опять будешь бегать на дворе..."
- И сладко засыпаешь под сказку, которых она знала много и которые мы с ее слов тоже все знали давно наизусть, но всё же просили рассказывать еще и еще раз. А утром она нас будила, прихлопывая в ладоши: "Вставайте, ребятишки, поспели горячие пышки!"... Няня наша была неграмотная, и каждый из нас, детей, по очереди, учил ее грамоте. Но ничего у нас не вышло. Она запомнила буквы, могла назвать и показать в книге каждую из них, у нее даже слоги выходили, но сложить их вместе в целое слово она не могла, сколько мы ни бились над ней. Так до смерти она и осталась неграмотной. Но я уверен, что на каждого из нас она имела большое влияние, быть может, лишь немного уступая влиянию матери а, может быть, даже и равняясь ему. Всего больше она любила Мишу, который был вторым из братьев по возрасту и был из всех детей, вероятно, наименее удачным.
Может быть, поэтому она и любила его больше других. Он и хворал в детстве больше остальных, пройдя через все возможные детские болезни. Возможно также, что он ей напоминал ее сына Ваню, который вырос в деревне - тот тоже был болезненным ребенком и, выросши и приехав в Москву, как и Миша, не отличался примерным поведением, был "непутевым", как она его называла. Когда наш Миша отбывал воинскую повинность ("Мишутка, Мишутка, дело то не шутка!") и должен был каждый день очень рано утром, еще до рассвета, отправляться в казармы, Няня его будила и поила чаем - ночью она чистила его мундир, пуговицы и пряжку, сапоги. И она была совершенно права, когда позднее серьезно говорила: "Когда мы с Мишенькой служили в солдатах"...