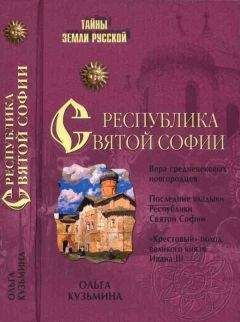Вячеслав Тулупов - Русь Новгородская
В начальной истории Киевской Руси часто именно позиция новгородцев являлась решающим фактором в спорах рюриковичей за княжеский престол в Киеве. Да и рюриковичи не забывали о значимости Великого Новгорода для их династии и поэтому относились к стольному граду их родоначальника с должным почтением. Этим, а не только богатством Новгорода, объясняется тот факт, что многие рюриковичи почитали для себя за честь приглашение на княжение, которое им посылали новгородцы.
НОВГОРОДЦЫ-БУЯНЫ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННИКИ?
В отечественной историографии долгие годы существовал миф о «буйности» новгородцев. Откуда он взялся?
Новгородские летописи нередко рассказывают о вечевых спорах и распрях. На этом основании некоторые историки закрепили за Новгородом характеристику скандального города, а за новгородцами образ дебоширов. Так ли это на самом деле? Выдающийся исследователь средневековой Руси Георгий Федотов писал: «Говоря о Новгороде, обычно преувеличивают беспорядок и неорганизованность вечевого управления. Мы мало знаем о нормальном течении дел. Летописи говорят только о его нарушениях. Традиционные картины побоищ на Волховском мосту являлись сравнительно редким исключением. По большей части „владыкам“ удавалось примерять враждующие партии до начала кровопролития.
Княжеские усобицы на остальном пространстве русской земли пролили больше крови и слез, чем драка на Волховском мосту. И, конечно, за все века существования Новгорода в его стенах не пролилось столько невинной крови, как за несколько дней его посещения Грозным в 1570 году»{30}.
А вот мнение о рассказах летописцев самого известного современного специалиста по истории Новгородской республики: «Круг интересов летописца всегда избирателен. Летописец тяготеет к необычному. Он пунктуально отмечает, например, поражающие его явления комет, но вовсе не склонен фиксировать то, что кажется ему обыденным»{31}.
Бурные политические споры новгородского веча выплескивались на страницы летописей. Читая их, можно прийти к мнению, что история Новгорода — это бесконечная череда общественных разногласий, столкновений, распрей. Но, это, конечно, не так. Вечевые споры и распри не были обычным состоянием общественной жизни Великого Новгорода. Новгородцы очень любили свое государство и глубоко чтили его республиканские традиции. Почти всегда они приходили к взаимному согласию по ключевым государственным вопросам, но иногда (что же в этом удивительного?) расходились во мнениях и разделялись на противостоящие партии. Летописи же сохраняли наиболее заметное, яркое, потрясающее воображение. А народная распря как раз относится к этой категории событий. Тихая, размеренная, повседневная жизнь без потрясений оставалась вне внимания летописцев. Не правда ли, как все это похоже на освещение политических событий современными средствами массовой информации? Да, во все времена человек и его наклонности оставались и остаются почти неизменными.
Новгородские летописцы скрупулезно отмечали каждую склоку среди своих сограждан. Для них она была сродни комете, появившейся на мирном небе общественной жизни. При этом летописцы не оставили потомкам даже описания государственного устройства республики. А зачем? Для них оно было очевидным и не вызывающим удивления фактом. Для историков же многое в области общественно-государственной жизни Новгорода остается загадкой. Например, исследователи до сих пор не могут установить в полном объеме, чем властные функции посадника отличались от тех же функций тысяцкого?
* * *Кто особенно поусердствовал в создании негативного образа Новгородской республики? Конечно, историки московской историософской традиции. Именно они, говоря о государственном устройстве Новгорода, акцентировали внимание на якобы постоянных вечевых спорах, переходивших в жестокие распри. Эти историки всегда старались подчеркнуть неуправляемый характер новгородской вольности. Тасуя факты, они стремились, доказать, что из такой неистовой, стихийной народной демократии ничего путного для всей Руси, если она захотела бы вдруг заимствовать новгородский опыт, произойти не могло. Конец же Новгорода как государства — лучшее подтверждение этому. Так ли это на самом деле?
В первую очередь, надо сказать, что новгородские летописцы никогда не скрывали нестроений, происходивших на вечевых собраниях. Они писали о них совершенно открыто и правдиво. Однако подлинное народовластие подразумевает и то, и другое. То есть, во-первых, свободное обсуждение и принятие решений на вече не могло не приводить к столкновению противоположных взглядов, которые иногда перерастали в распри. Во-вторых, истинная свобода народа предоставляла полное право летописцам открыто писать и безбоязненно выражать свое мнение о негативных явлениях политической истории своего государства.
Новгородская республика не смогла бы просуществовать несколько столетий в кольце враждебных ей государств, если бы в ее общественной жизни на самом деле царил хаос. «Вечевой строй мог функционировать лишь при сильной власти, не допускавшей анархии»{32}.
Конечно, вечевые мятежи — не лучший метод для проявления политической воли народа. Неспособность новгородских законов и исполнительной власти до конца искоренить бунты была одним из самых слабых мест общественной жизни Новгорода. Вместе с тем, народные возмущения являются для нас очень яркой, хотя и не лучшей, иллюстрацией реально существовавшей новгородской демократии. И при этом все же не надо забывать, что «вообще междоусобия в Новгороде не представляют слишком кровавых картин. До кровопролития не всегда доходили, а если оно и случалось, то ограничивалось смертью нескольких человек. Часто тем и кончалось, что соберутся враждебные стороны и, вооруженные, погрозят друг другу, побранятся, а потом помирятся и разойдутся»{33}.
А какую картину мы наблюдаем в средневековой Москве, политическом оппоненте Новгорода? Московская общественная жизнь той эпохи — полная противоположность новгородской. Если же быть совершенно точным, то надо сказать, что никакой общественной жизни в Московском княжестве не было и в помине. Поэтому-то и никаких упоминаний о народных возмущениях в летописях найти нельзя. Откуда же им было взяться? Самодержавный князь обсуждал политические проблемы в тесном кругу избранных советников. Если кто-нибудь из них и осмеливался высказывать несогласие с княжеским мнением, то это никоим образом не служило поводом к мятежу.
В Московском княжестве все принадлежало князю, и все были его холопами. Московские бояре не выносили сор из княжеского терема, поэтому о спорах на государственных советах летописцам писать было нечего. А если бы вдруг кто-нибудь из них и вздумал изложить свое, отличное от княжеского, мнение, то кто позволил бы ему это сделать?
Характерный пример. Гибель Новгорода летописцами описана довольно подробно. При этом они пространно сообщают о вечевых спорах и о разделении новгородцев на партии по отношению к Москве. Перед нами предстает живая картина политической и общественной жизни Новгорода в последний период существования республики. И в то же время летописцы хранят полное молчание о планах московского князя относительно Новгорода. Конечно, у него была одна цель — подчинить Новгород. Это ясно и без всяких слов. Однако как великий князь хотел добиться этого, какие советы держал с ближними боярами, существовали ли в правящей верхушке москвичей разногласия — обо всем этом в летописях сведений не найти.
* * *Сообщения летописей о новгородских вечевых распрях — не аргумент против республиканского устройства государства. Как, впрочем, и сокрытие тайн московского княжеского двора — не аргумент против монархической формы правления. В авторитарных государствах политические вопросы обычно не выносили на общественное обсуждение, решения принимали в кулуарах дворцов. Если же и выносили, то лишь с пропагандистской целью. Поэтому исследователи, занимающиеся историей таких государств, больше тратят сил на построение гипотез, чем на анализ реальных фактов. История самодержавных, закрытых политических режимов изобилует событиями, о причинах которых исследователь может только догадываться. Данные секретных совещаний почти никогда не доверяли бумаге. Воспоминания же информированных современников почти неизменно несут печать или недосказанности, или предвзятости. Дворцовые тайны редко покидали покои властителей.
Противоположную картину наблюдаем в истинно демократических обществах. Там граждане обсуждали государственные вопросы открыто на всенародных собраниях. Поэтому причины политических решений для историков, как правило, очевидны. Проблема для исследователей заключается только в сохранности письменных источников.