Жорж Ленотр - Повседневная жизнь Версаля при королях
Шесть часов пополудни. Уже показались королевские экипажи. Все готово. Погода стоит великолепная.
* * *Разбитый усталостью и снедаемый лихорадкой с восторженной улыбкой Фуке принимает гостей. Первый момент был труден. В одно мгновение юный король оценил великолепие подготовки к приему: ничего более прекрасного ему не приходилось видеть. А вот и сам хозяин, который ему совсем не по душе… Под взглядом короля главный управляющий финансами, казалось, смешался. Быть может, он понял в тот миг, как был неосторожен? Но вот оба героя овладели собой, и праздник, так замечательно удавшийся, столь блистательный, что его отголоски звучат спустя столетия, начался.
Любезность нынешних владельцев замка, а также собственное упорство позволили Жану Корде изучить и издать различные документы, касающиеся строительства поместья Фуке: архитектурные расчеты и планы, квитанции об оплате мастеров, что работали над отделкой замка под руководством Лево и Лебрена; на основе этих ценных документов он написал превосходную книгу. Что касается самого имения Во, то сейчас по великолепию оно, пожалуй, не уступает прежнему.[35] Заслуга принадлежит Альфреду и Эдму Сомье, которые за двадцатилетие восстановительных работ сумели спасти от гибели бесценное произведение, судьба которого так тесно связана с историей самой Франции: ведь результатом знаменитого праздника в Во-ле-Виконт были гибель Фуке и рождение Версаля.
Злополучный глава финансового ведомства был арестован через месяц в Нанте, и руководил этой акцией капитан мушкетеров д’Артаньян. Одновременно в Во были направлены курьеры с приказанием опечатать замок и вывезти все документы. Жену Фуке по традиции отправили в изгнание в Лимож; почему-то столица этой прелестной провинции, где, вероятно, так приятно жилось, считалась тогда местом ссылки…
Процесс против Фуке тянулся три года. Судьи так и не посмели назвать главной его вины и приговорили подсудимого к вечному изгнанию «за злоупотребления и растрату подотчетных сумм». Такая формулировка была провалом для его соперника и безжалостного противника — Кольбера. Впоследствии король произвольно ужесточил наказание: Фуке был заточен в крепость Пиньероль, где и умер через шестнадцать лет.
Людовик XIV не удовольствовался вывезенными из Во бумагами. В ходе последовавших распродаж он приказал оставить для себя массу тамошних ценностей: большую часть ковров, обивочных тканей, шелков, золотой парчи, множество серебряных ваз, мраморов, а также деревьев: лавров, апельсинов, тисовых. В его голове зрел замысел: не будучи в силах стерпеть, чтобы какой-то его подданный владел столь прекрасным дворцом в то время, когда он сам живет в королевских развалюхах, он вознамерился построить себе жилище еще краше, чем у Фуке. И это у него вполне получилось, поскольку вместе с прекрасной мебелью и тканями он «конфисковал» у Фуке Лебрена, Лево и Ленотра.
Все знают, какое применение нашел он их дарованиям: уже ближайшей весной на покрытой лесом равнине Версаля стали вырисовываться контуры нового дворца и парка.
Женитьба Людовика XIV
О нет, это вовсе не было любовью с первого взгляда! На устройство этого брака ушло целых три года; преодолеть пришлось множество неблагоприятных обстоятельств, да и, по правде говоря, жених капризничал, как только мог. Будь он свободен, он немедленно женился бы на своей дорогой и горячо любимой Марии Манчини, которой он уже давно нашептывал на ушко нежности; так, во всяком случае, повествует традиция, и этот эпизод остается одним из самых трогательных и любимых в нашей истории.
Мало кто знает, что Мария вовсе не была той сухопарой и чахлой брюнеткой, какой ее описали мемуаристы. В галерее одного коллекционера, отличающегося большим вкусом и знанием, имеется портрет кисти Миньяра,[36] где он представил ее своенравной, очень привлекательной и столь щедро декольтированной, что можно не сомневаться: она только казалась худощавой, а когда было надо, умела себя показать. Но Мазарини, дядя очаровательной девицы, ставил интересы государства выше притязаний собственной семьи: на его взгляд, Мария не принадлежала к тому рангу невест, из которого выходят в королевы.
По его мнению, лишь одна принцесса в мире достойна стать женой молодого монарха, чьим наставником он сам себя сделал, — инфанта Мария-Тереза, дочь короля Испании Филиппа IV. Никто никогда не видел этой молодой особы: суровый этикет испанского двора держал ее герметически запертой. Но это не мешало ей слыть чудом красоты и благонравия. Кроме того, ей предстояло унаследовать весь Пиренейский полуостров и немалую часть Нового Света.
К несчастью, вот уже двадцать лет, как Франция воюет с Филиппом IV, и просить руки дочери монарха, с которым до сих пор обменивались лишь залпами картечи и выстрелами мушкетов, казалось делом щекотливым. Уладить его взялся Мазарини, готовясь пустить в ход весь свой талант: во-первых, ему предстояло как бы ненароком, не выдавая собственных намерений, подвести испанского короля к тому, чтобы тот сам возжелал этого союза; затем найти подобающий повод, чтобы приступить к мирным переговорам с упорным и упрямым противником; наконец — и это оказалось самым трудным — внушить двадцатилетнему, страстно влюбленному Людовику XIV, что он во имя счастья народа обязан отказаться от своей Манчини и уговорить ее исчезнуть.
Все это тянулось долго. Путем двухлетних интриг, уговоров и дипломатических уловок искусный Мазарини все же приблизился к цели, и в июле 1659 года он отправился к границе в Пиренеях, чтобы встретиться с Первым испанским министром доном Луисом де Харо. Встреча произошла на острове Бидассоа и была крайне холодной.
Стараясь произвести на своего коллегу надлежащее впечатление, представитель Франции прибыл в сопровождении кортежа, достойного азиатского владыки: целый двор вельмож, полторы сотни одетых в ливреи лакеев кардинала, сотня конных солдат, двести гвардейцев, восемь запряженных шестерками повозок с багажом, двадцать четыре мула и семь «приличествующих его персоне» карет. Дона Луиса, напротив, окружало лишь несколько человек, одетых во все черное, без каких бы то ни было украшений и вышивок, молчаливых, высокомерных и презрительных.
Обсуждался только вопрос о мире — о женитьбе не было ни слова. Встречи шли одна за другой без заметных сдвигов, однако в конце концов удалось договориться: по прошествии четырех месяцев французская сторона рискнула произнести имя инфанты, и тотчас же лицо представителя испанской короны просветлело. Было достигнуто самое важное: стороны пришли к решению, что несравненная принцесса станет залогом мира.
Мазарини торопил события: он боялся, как бы его царственный питомец не ускользнул. Поэтому 19 октября того же года Мадрид узрел на своих улицах летящего галопом французского посла маршала де Грамона в окружении блистательной кавалькады из дворян и пажей, разодетых в шелка, перья, кружево, золотое и серебряное шитье. Месяц назад они выехали из Парижа и накануне стали лагерем неподалеку от испанской столицы. Но в город они въехали с показной стремительностью: то была демонстрация нетерпеливого чувства, пылавшего в сердце жениха и якобы вынуждавшего их на протяжении всех 325 миль выдерживать столь головокружительную гонку, на которую способен лишь тот, кого мчат «крылья любви».
Сам жених совсем не спешит. В течение пяти месяцев он разъезжает со своим двором по Лангедоку и Провансу и обменивается пламенными письмами с милой его сердцу Манчини, которую Мазарини отправил в Ла-Рошель. Однако предчувствуя, что неизбежной судьбе вскоре придется покориться, Людовик XIV решает посмотреть, как же выглядит его суженая.
Де Грамон — единственный, кто ее видел, — не может сказать по этому поводу ничего. Во время аудиенции, двигаясь по бесконечной анфиладе залов средь расступившейся молчаливой толпы, он достиг того святилища, где под золотым балдахином стоял Филипп IV, весь в черном, бледный до голубизны и неподвижный, как статуя; даже его глаза смотрели в одну точку без всякого выражения, будто стеклянные. Страшное желудочное заболевание позволяло ему принимать в пищу только женское молоко; поэтому он принужден был держать кормилицу, которая питала его четырежды в день. Он ничего не произнес в ответ на любезности посла, которого провели затем в другой приемный зал.
Здесь, стоя на подмостках, перед ним предстали королева и инфанта, обе столь раскрашенные, столь стиснутые арматурой корсетов, огромными фижмами и ошейниками воротников, в которых утопали их щеки, что при виде этих восковых фигур де Грамон смутился и не сказал ни слова, ограничившись лишь тем, что поцеловал края их юбок. Он успел только заметить, что у инфанты, кажется, прекрасные волосы, голубые глаза и полные губы. К тому же она не знала ни слова по-французски, а точнее, подчиняясь зверскому испанскому этикету, не говорила вообще. Кроме отца и исповедника к ней никогда не приближался ни один мужчина. Ее развлечения состояли из карт, посещений церковных служб, монастырей и время от времени присутствия на аутодафе[37]…
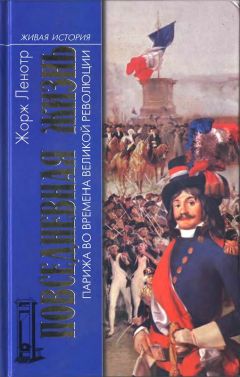

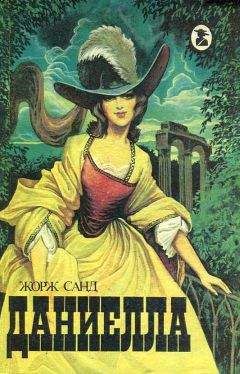
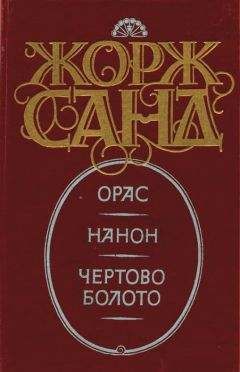
![Жорж Санд - Волынщики [современная орфография]](/uploads/posts/books/141636/141636.jpg)