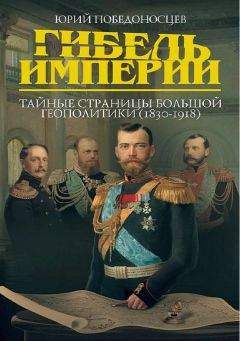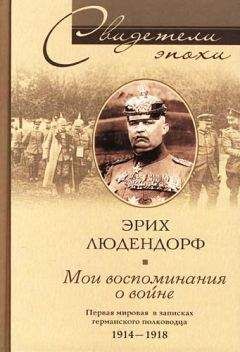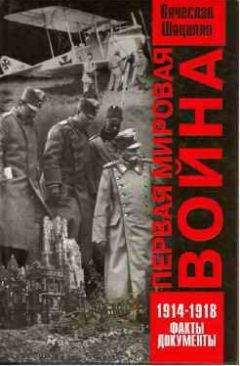Михаил Шиловский - Первая мировая война 1914–1918 годов и Сибирь
Первый по времени исследователь рассматриваемого явления А. А. Храмков, реагируя на попытку квалифицировать его как пьяный бунт, обращает внимание на массовый характер произошедшего не только в масштабах Томской губернии, но и всей страны; выступления имели место в традиционно наиболее беспокойных селах и волостях Барнаульского уезда и сводились не только к разгрому (разграблению) винных лавок, но и протесту против притеснений властей и «в определенной степени недовольство войной». «Были ли эти волнения пьяным бунтом? – вопрошает историк. – Конечно, да. Но, как говорится, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. За бунтом, разгромами, эксцессами и убийствами нельзя упустить социальное и политическое составляющее этого движения»[47].
В явном виде во всех известных фактах выступлений мобилизованных антиправительственная составляющая не просматривается. Но их массовость и радикализм порождали у определенной части социума надежды на приближающейся катаклизм. «Деревня заметно опустела: – вспоминал в июле 1914 г. пятнадцатилетний подросток из кулундинского села Сидорова Барнаульского уезда Ф. Д. Останин, – массы «запасных» отправлялись на подводах в Камень… Начались погромы в Барнауле: скопившиеся там мобилизованные крестьяне громили магазины, винополку, склады. Были слухи о беспорядках в Камне, Новониколаевске. Даже в деревне чувствовалось какое-то напряжение. Снова зачастил к нам Ф. И. Кузьменко [мастер-маслодел. – М. Ш.]. О чем-то возбужденно говорил с отцом и радостно восклицал: «Ну, теперь царский трон полетит к чертям, какие-нибудь три-четыре месяца – готово! Слышал, говорят, в Барнауле…», – рассказывалось о том, как мобилизованные заняли тюрьму, освободили политических, и хотя это потом не подтвердилось, но слухи ходили упорные».
Анализируя поведение участников массовых беспорядков начального этапа войны, Д. Санборн отмечает: «Бунт представляет собой не единичное действие, а набор их. Когда баланс власти нарушается и силы традиционных органов управления ослабевают, открывается простор для всех видов деятельности, выходящих за рамки закона. Одни нападают на полицию, другие воруют хлеб, третьи напиваются, многие участвуют и в том, и в другом, и в третьем. Факторами, на фоне которых возникли беспорядки среди призывников 1914 г., были желание напиться, обеспечить себя и семьи продуктами и вещами, показать свое недовольство войной и сделать все возможное для того, чтобы затянуть или нарушить отправку на фронт. Военные власти предпочитали объяснять бунты только желанием бунтовщиков только напиться, но с течением войны это объяснение становилось все менее подходящим»[48]. В рамках этой версии С Ю. Шишкина рассматривает выступления запасных «скорее формой стихийного, нежели организованного протеста, в основе которого лежали естественные человеческие чувства – верность существовавшим традициям и тревога за судьбы близких»[49].
На мой взгляд, волнения мобилизованных стали возможными, благодаря комплексу причин, и прежде всего – просчетам и непрофессионализму властных структур. Характерен в этом плане пример Бийска и Бийского уезда, где властям удалось справиться со стихией, поэтому, в отличие от других уездов Томской губернии, здесь не было массовых беспорядков. Не случайно местный уездный исправник Поляков был награжден томским губернатором денежной премией в размере 100 руб.[50] В Омске, согласно донесению акмолинского губернатора, «из казенных винных лавок ни одной бутылки не было продано, и никто из запасных не пытался туда проникнуть. В частных магазинах и ренсковых погребах спиртные напитки были опечатаны и сданы на хранение владельцам под их ответственность. Дни пребывания в Омске запасных, а их собралось вместе с ополченцами до 45 тысяч, протекали спокойно, при полном порядке. Горожане радовались, видя своих доблестных воинов и спешили оказать прибывшим и их семьям помощь, открывая чайные, столовые и проявляя таким образом должное внимание защитникам Родины»[51]. Не было волнений в городах Восточной Сибири. Применительно к Иркутску, И. И. Серебренников 2 августа 1914 г. записал в дневнике: «Мобилизация проходит спокойно, совершенно нет пьяных»[52].
Призыв сопровождался повальным пьянством и вытекающих из этого разгромов винных лавок, магазинов, винных складов. Но данное явление связано вообще с негативным отношением населения к воинской повинности. «Слово «забрили» самое ненавистное слово, – вспоминает Г. М. Карнаухов. – Оно выражает горе и несчастье, как для самого призванного в солдаты, так для его семьи… Пьяная ватага с гармошками, пьяными песнями, беспричинными драками и руганью плелась по улице. «Забритых» призывников сопровождало почти все село – родные, знакомые, соседи и просто зеваки.
Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья,
А завтра рано, чуть светочек,
Заплачет вся моя семья»[53].
Нельзя забывать о стремлении предприимчивых слоев населения заработать в ситуации запрета продажи спиртных напитков. «От времени до времени в Омске, – свидетельствует акмолинский губернатор, – на толкучке и в притонах появлялись продавцы водки, спирта, коньяка, добываемых за пределами области или оставшихся от запасов, сделанных до мобилизации. Некоторые с слабой волей запасные набрасывались на эти напитки, не брезгуя даже и политурой, платили большие деньги, пили и хмелели»[54].
Массовый же призыв сразу изменил повседневную жизнь десятков тысяч сельских обывателей и горожан, к тому же он происходил в самый разгар сенокосной страды. Г. М. Жихарева, оказавшаяся летом 1914 г. в изыскательской партии на Чуйском тракте, вспоминала: «Помню совершенно перевернутые деревни – иначе не могу назвать, – исступленные вопли и причитания баб, растерянные, часто пьяные, бессмысленные или злобные лица мужчин, дикое оранье песен, полное неведение о происходящем»[55].
Помимо психоментальных факторов сыграли роль детонатора явные просчеты и недостатки в организации мобилизации, о которых выше уже сообщали акмолинский и тобольский губернаторы. Мобилизованные сутками ждали на сборных пунктах отправки дальше или погрузки в эшелоны. При этом, как в случае с Барнаулом, не получая длительное время горячей пищи и пребывая на улице. Губернские власти, как правило, вину за произошедшее возлагали на нижестоящие административные структуры. Тот же акмолинский губернатор в донесении в МВД от 4 октября 1914 г. поставил в упрек кокчетавскому уездному начальнику, «а равно находившимся в Кокчетаве крестьянским деятелям, что они не сумели собравшихся в городе запасных, среди которых были охмелевшие, успокоить твердым словом увещевания, а также не приняли меры к отобранию у них запасов водки»[56].
Более организовано мобилизация прошла в казачьих войсках Азиатской России. Командир 1-й отдельной Забайкальской казачьей бригады телеграмму о мобилизации получил в 4 часа 40 минут 18 июля 1914 г. В 6 часов утра в ее штабе началась мобилизационная работа. В 6 часов 30 минут командиры частей доложили о получении распоряжений о мобилизации. В 18.00 штаб бригады был укомплектован по штатам военного времени и к 21.00 был готов к отправке на театр военных действий. В полках бригады синхронно осуществлялся комплекс мероприятий: сотни получали боеприпасы; перековывали лошадей; проводились смотры обмундирования, людского и конского снаряжения и имущества; составлялись списки личного состава; оттачивались шашки; высылались артельщики за фуражом, овсом, продуктами; получали из неприкосновенных запасов котелки, палатки, парусиновые ведра, часы, бинокли, компасы и шанцевый инструмент; укладывались седельные вьюки; казаки проходили медицинский осмотр, больные передавались в местный лазарет, слабосильные, подсудимые и подследственные отправлялись в распоряжение полковых квартирмейстеров.
Призывник Первой мировой. Подпись на обороте: «На добрую память, дорогой и горячо любимой Марусе. 25 октября 1915 г.». Из коллекции Куйбышевского краеведческого музея, г. Куйбышев (бывший Каинск) Новосибирской обл.
Командиры сотен получали денежные авансы: на фуражное довольствие, приварочные, провиантские; офицеры обеспечивались денежным довольствием. Упаковывалось имущество сотен в ящики, от командира обоза принимали обоз 1-го разряда с полной укладкой (походные кухни и продовольственные повозки). Командиры сотен получали карты, книги учета, бланки и другие документы отчетности военного времени.
На доукомплектование полков прибывали казаки с льготы, а также получали лошадей из приписанных станиц. Люди, как правило, приходили плохо обмундированные и не имели всех положенных по мобилизации вещей, а «лошади поступали в очень плохих телах и многие были малопригодны под верх». Закончив доукомплектование и формирование, полки приступили к занятиям по боевой подготовке, прежде всего стрельбе, слаживанию сотен, разведке. Расписание занятий устанавливалось с 7.00 до 11.00, а после обеда – с 16.00 до 18.00. Проводилась пристрелка винтовок под патрон с остроконечной пулей. В мобилизованных частях Забайкальского казачьего войска находилось: 256 генералов и офицеров, 11667 казаков и 12465 лошадей. 1 сентября отдается распоряжение о выступлении бригады на фронт. 6 сентября ее штаб и 1-й Читинский полк приступили к погрузке в эшелоны на станции Чита-1 и 8 сентября убыли на театр военных действий. 14 сентября последний 1-й Верхнеудинский полк со станции Дивизионная 4 эшелонами отправился на запад России[57].