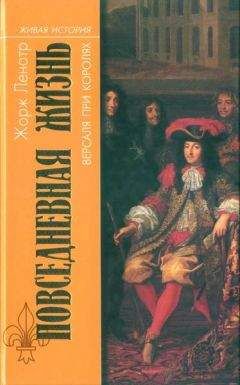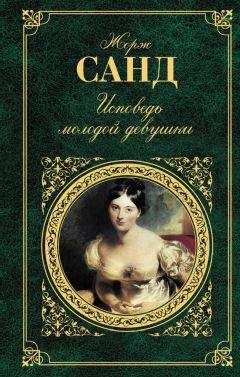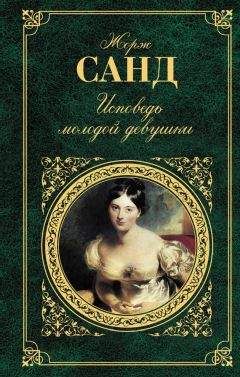Жорж Ленотр - Повседневная жизнь Парижа во времена Великой революции
В середине июня 1793 года человек, небрежно одетый в красный суконный фрак, с голой шеей и развязанным галстуком, спускавшимся ниже, чем его жабо, в сапогах с отворотами, постучал в двери запертого наглухо дома на одной из пустыннейших улиц окрестностей Сен-Жермен-де-Пре. Никто не открывал ему; он постучал снова, и тогда послышались на лестнице осторожные шаги, и старая женщина приоткрыла дверь.
«Гражданин аббат дома?» — спросил пришедший.
«Но, гражданин, в этом доме нет никакого аббата».
Человек пожал плечами и, толкнув двери, вошел в коридор. «Аббат ждет меня, — сказал он, — мне нужно его видеть; это спешно». — «Значит, вы пришли на исповедь? Это другое дело; извините меня, видите ли, приходится остерегаться… Все боишься нашествия этих чертей из трибунала».
«Хорошо, довольно, — прервал человек, — проводите меня к господину аббату». Старая служанка пошла впереди, поднялась в четвертый этаж и постучала в маленькую дверь: в комнате, куда она ввела неизвестного, священник в рясе ходил большими шагами, читая свой молитвенник. Он остановился, увидев вошедшего, и с минуту смотрел на него. С первого взгляда он составил свое мнение о нем: волосы незнакомца были растрепаны, хотя на них виднелись остатки прически и помады. «Его шевелюра походила на гриву; на лице виднелись следы оспы, на лбу виднелась гневная складка, но линия рта изобличала доброго человека. У него были толстые губы, зубы крупные, сильные руки, как у носильщика, сверкающие глаза». Священник узнал его и побледнел: это был Дантон.
«Господин аббат, — сказал он несколько смущенно, — я пришел исповедоваться: не будете ли вы так добры выслушать меня и дать отпущение моих грехов?».
«Встаньте на колени, сын мой», — последовал ответ. Пока священник закрывал свой молитвенник и усаживался в соломенное кресло, Дантон опустился на колени на еловый аналой и, сложив руки, склонил свою большую, косматую голову перед висящим на стене распятием.
Из всех удивительных картин, завещанных революцией потомству, эта сцена, без сомнения, является одной из самых неожиданных и в то же время величественных. Этот аббат по фамилии де Керавенан, ставший впоследствии священником церкви Сен-Жермен-де-Пре, не дал присяги, требуемой конституцией. В течение восьми месяцев он скрывался в Париже, быть узнанным одним из членов правительства означало для него верную смерть, и вот теперь к нему пришел человек, создавший кровавый Революционный трибунал, человек, своими сильными руками вырвавший с корнем древнюю католическую монархию… И перед ним, бедным священником, затравленным, как преступное существо, стоящим вне общества, вне закона, этот человек преклонил колени и каялся в своих грехах!
Аббат де Керавенан поднял глаза к небу, призывая божественное милосердие, и склонясь, слушал, как этот мощный голос, заставивший трепетать старый мир, попытался стать смиренным и прошептал:
«Отец мой, я обвиняю себя…».
Здесь история должна замолкнуть — тайна этой странной и торжественной беседы, конечно, не была нарушена. Когда в первые годы XIX века люди видели, как по улицам, окружающим церковь Сен-Жермен-де-Пре, проходил старый седой священник, задумчивый и молчаливый, они говорили друг другу, узнав аббата де Керавенана: «Он исповедовал Дантона». Но ничего больше никто об этом не знал. Тем не менее в факте этом нельзя сомневаться.
Луиза Жели, выросшая в буржуазной семье старого закала, была воспитана в строгости. Мы уже говорили, что к Дантону она чувствовала гораздо более страха и почтения, чем любви. Тщетно он старался спрятать свои зубы и укоротить свои когти — она не могла испытывать доверия к этому чудовищу. Семья ее думала, что ставит жениху непреодолимое препятствие, требуя, чтобы он подчинился обрядам католической церкви. Но Дантон любил; он поспешил к указанному ему непокорному священнику; свадебный обряд был совершен в мансарде перед столом, обращенным в престол… Точно какой-нибудь церковный обряд в религиозной Бретани во времена Вандейских войн. И это была свадьба Дантона!
О политической роли Дантона в 1793 году уже сказано все в других книгах, но мы льстим себе надеждой, что совершенно новым способом, заставляя вещи рассказывать историю людей, мы можем добыть неизвестные доныне данные о его психологии. Известно, чем объясняли второй брак Дантона. Говорили, что он безумно влюбился в шестнадцатилетнюю девушку, обратился в смиренного агнца, пожертвовал всем за обладание ею, желая быть счастливым хотя бы несколько месяцев, так как знал, что должен умереть.
А вот город Арси рисует нам Дантона совершенно иначе. Мы видели, что там он думал о будущем, округлял свое имение, куда рассчитывал со временем удалиться, строил планы дальнейшей своей жизни, мечтая уехать к себе и жить спокойно и в довольстве вместе с женой и детьми. Смерть Габриэль внезапно разрушила эти планы, и, без сомнения, Дантон поддался порыву чувственного легкомыслия и думал развеять свое горе, предаваясь бурным страстям. Но очень скоро таившийся в нем добрый буржуа почувствовал себя несчастным среди этой разгульной жизни, полной грубых удовольствий. Женившись на Луизе Жели, дочери экзекутора, с которым он познакомился в парламенте и которого затем устроил на выгодное место в морском министерстве, Дантон думал вернуть свою прерванную мечту. Он устал от революции, ему хотелось устроить собственную судьбу. Говорили, что, вступая в союз с этой шестнадцатилетней девочкой, он имел одну цель — весело провести последние дни своей жизни. Напротив, он хотел снова начать жить, и совершенно иначе, чем жил до сих пор.
Сейчас он снова начинает мечтать о своем милом Арси. Его самым горячим желанием стало как можно скорее уехать туда, увезти молодую жену и обоих сыновей и заставить всех забыть о себе, а главное, самому забыть… В ноябре 1793 года он побывал в Арси и прикупил к своему имению небольшой лесок[267]. В декабре того же года он снова ездил туда: на этот раз он доставил своим землякам дерево, которое те хотели посадить как символ свободы на одной из городских площадей. Протокол этой церемонии, хотя и составленный в наивных выражениях, очень интересен. Это картинка провинциальной жизни во времена террора, заслуживающая быть сохраненной[268].
«Тридцатого фримера II года, в бюро не было занятий по поводу праздника декады; день этот был указан в протоколе от 24 фримера, вследствие постановления собрания граждан, состоявшегося 20 фримера, на котором было решено, что дерево Свободы будет посажено в этот именно день. Дерево находилось у дома гражданина Дантона, доставившего его. Все граждане, служившие в национальной гвардии, вместе с прочими гражданами и гражданками направились в следующем порядке.
С площади Оружия[269] гвардия двинулась двумя колоннами, неся знамена; во главе ее шел командир, а перед ней — барабанщики. Чиновники муниципалитета шли за правой колонной гвардии, члены трибунала — за левой, служащие администрации отдела шли посредине, затем следовали члены комитета надзора. Шествие замыкалось жандармами и бесчисленным множеством граждан, гражданок и детей, друзей свободы.
Посредине этих двух колонн, построенных, как сказано выше, восемь санкюлотов, добрых патриотов, торжественно несли бюсты Брута, Лепелетье, Марата и Шалье на четырех специально для этой цели сделанных носилках. Рядом с этими бюстами и за ними следовали молодые гражданки в белых платьях, опоясанные трехцветными кушаками. Они несли шесты, обвитые плющом, на вершине которых находились бумажные ленты с надписями: Равенство, Свобода, Братство, Смерть тиранам, Мир патриотам. Барабан бил обычный марш, а когда он переставал бить, гражданки, сопровождавшие вышеупомянутые бюсты, пели куплеты из «Гимна марсельцев». Затем снова бил барабан и шествие продолжалось, пока все участники церемонии не подошли к месту, где находилось дерево, которое должны были посадить.
Приблизившись к этому месту, молодые гражданки спели куплет «Священная любовь к отечеству», после чего все присутствующее спели и повторили припев «К оружию, граждане!». Затем многие добрые патриоты и санкюлоты, украшенные трехцветными лентами, понесли впереди колонн дерево, предназначенное для посадки. Сопровождая его, все граждане и гражданки без устали пели, а барабан отбивал «Марш марсельцев», пока дерево не донесли до места, где его следовало посадить. Когда подошли к этому месту, были сделаны различные распоряжения относительно того, как сажать его и закапывать в разрыхленнуй землю, принесенную в яму в шесть футов глубиною и девять футов в поперечнике, вырытую согласно постановлению от 24 фримера. Присутствующие граждане и гражданки спели несколько подходящих к случаю куплетов, и прежде чем водрузили дерево, когда все уже было готово к посадке, гражданин Виншон[270] произнес речь, которую ему надлежало сказать, чтобы внушить народу, что он должен предпочитать гражданские праздники праздникам старого культа. Эти последние он обрисовал как «праздники заблуждения и суеверия»; он объяснил, насколько прекраснее праздники, подобные нашему, являющиеся торжеством истины и разума. Речь гражданина Виншона вызвала аплодисменты и сопровождалась криками: «Да здравствует Республика!».