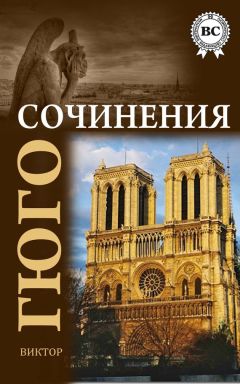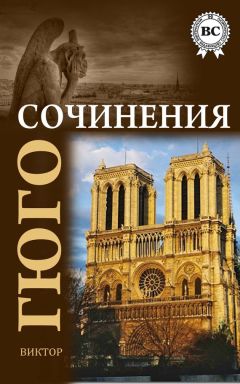Виктор Гюго - Девяносто третий год
Один из них был Говэн, другой -- Симурдэн.
Дружба царила меж этими двумя людьми, но меж двумя принципами не унималась вражда, как если бы единую душу рассекли надвое и разъединили навеки; и действительно, Симурдэн словно отдал Говэну половину души -- ту, что являла собой кротость. Светлый ее луч почил на Говэне, а черный луч, если только бывают черные лучи, Симурдэн оставил себе. Отсюда глубокий разлад. Эта тайная война рано или поздно должна была стать явной. И в одно прекрасное утро битва началась.
Симурдэн спросил:
-- Каково положение дел?
Говэн ответил:
-- Вы знаете это не хуже меня. Я рассеял шайки Лантенака. При нем теперь всего горстка людей. Мы загнали их в Фужерский лес. И через неделю окружим.
-- А через две недели?
-- Возьмем его в плен.
-- А потом?
-- Вы читали мое объявление?
-- Читал. Ну и что же?
-- Он будет расстрелян.
-- Опять милосердие! Лантенак должен быть гильотинирован.
-- Я за воинскую казнь, -- возразил Говэн.
-- А я, -- возразил Симурдэн, -- за казнь революционную.
Он взглянул в глаза Говэну и добавил:
-- Почему ты отпустил на свободу монахинь из обители Сен-Мар-ле-Блан?
-- Я не воюю с женщинами, -- ответил Говэн.
-- Однакож эти женщины ненавидят народ. А в ненависти женщина стоит двадцати мужчин. Почему ты отказался отправить в Революционный трибунал всю эту свору -- старых фанатиков попов, захваченных при Лувинье?
-- Я не воюю со стариками.
-- Старый священник хуже молодого. Мятежи еще опаснее, когда к ним призывают седовласые старцы. Седины внушают доверие. Остерегайся ложного милосердия, Говэн. Цареубийцы суть освободители. Зорко следи за башней тюрьмы Тампль.
-- Следи! Будь моя воля -- я выпустил бы дофина на свободу. Я не воюю с детьми.
Взгляд Симурдэна стал суровым.
-- Знай, Говэн, надо воевать с женщиной, когда она зовется Мария-Антуанетта, со старцем, когда он зовется папа Пий Шестой, и с ребенком, когда он зовется Луи Капет.
-- Учитель, я человек далекий от политики.
-- Смотри, как бы ты не стал человеком опасным для нас. Почему при штурме Коссе, когда мятежник Жан Третон, окруженный, чуя гибель, бросился с саблей наголо один против всего твоего отряда, почему ты закричал солдатам: "Ряды разомкни. Пропустить его".
-- Потому что не ведут в бой полторы тысячи человек, чтобы убить одного.
-- А почему в Кайэтри д'Астилле, когда ты увидел, что твои солдаты собираются добить раненого вандейца Жозефа Безье, уже упавшего на землю, почему ты тогда крикнул: "Вперед! Я сам займусь им!" -- и выстрелил в воздух.
-- Потому что не убивают лежачего.
-- Ты неправ. Оба пощаженные тобой стали главарями банд: Жозеф Безье зовется теперь "Усач", а Жан Третон -- "Серебряная Нога". Ты спас двух человек, а дал республике двух врагов.
-- Я хотел приобрести для нее друзей, а не давать ей врагов.
-- Почему после победы под Ландеаном ты не приказал расстрелять триста пленных крестьян?
-- Потому что Боншан пощадил пленных республиканцев, и мне хотелось, чтобы повсюду говорили: республика щадит пленных роялистов.
-- Значит, если ты захватишь Лантенака, ты пощадишь его?
-- Нет.
-- Почему же нет? Ведь пощадил же ты триста крестьян.
-- Крестьяне не ведают, что творят, а Лантенак знает.
-- Но Лантенак тебе сродни.
-- Франция -- наш великий родич.
-- Лантенак -- старик.
-- Лантенак не имеет возраста. Лантенак -- чужой. Лантенак призывает англичан. Лантенак -- это иноземное вторжение. Лантенак -- враг родины. Наш поединок с ним может кончиться лишь его или моей смертью.
-- Запомни, Говэн, эти слова.
-- Ведь это мои слова.
Последовало молчание; они смотрели друг на друга.
Говэн заговорил первым:
-- Кровавой датой войдет в историю нынешний, девяносто третий год.
-- Берегись, -- воскликнул Симурдэн. -- Да, существует страшный долг. Не обвиняй того, на ком не может быть вины. С каких это пор врач стал виновником болезни? Да, ты прав, этот великий год войдет в историю, как год, не знающий милосердия. Почему? Да потому, что это великая революционная година. Нынешний год олицетворяет революцию. У революции есть враг -- старый мир, и она не знает милосердия в отношении его, точно так же как для хирурга гангрена -- враг, и он не знает милосердия в отношении ее. Революция искореняет монархию в лице короля, аристократию в лице дворянина, деспотизм в лице солдата, суеверие в лице попа, варварство в лице судьи -- словом, искореняет всю и всяческую тиранию в лице всех и всяческих тиранов. Операция страшная, но революция совершает ее твердой рукой. Ну, а если при том прихвачено немного и здорового мяса, спроси-ка на сей счет мнение нашего Бергава. Разве удаление злокачественной опухоли обходится без потери крови? Разве не тушат пожара огнем? Кровь и огонь -- необходимые и грозные предпосылки успеха. Хирург походит на мясника, целитель может иной раз показаться палачом. Революция свято выполняет свой роковой долг. Пусть она калечит, зато она спасает. А вы, вы просите у нее милосердия для вредоносных бацилл. Вы хотите, чтобы она щадила заразу? Она не склонит к вам слух. Прошлое в ее руках. Она добьет его. Она делает глубокий надрез на теле цивилизации, чтобы открыть путь будущему здоровому человечеству. Вам больно? Ничего не поделаешь. Сколько времени это продлится? Столько, сколько продлится операция. Зато вы останетесь в живых. Революция отсекает старый мир. И отсюда кровь, отсюда девяносто третий год.
-- Хирург не теряет хладнокровия, -- возразил Говэн, -- а вокруг нас все ожесточились.
-- Труженики революции должны быть беспощадны, -- ответил Симурдэн. -Она отталкивает руку, охваченную дрожью. Она верит лишь непоколебимым. Дантон -- страшен, Робеспьер -- непреклонен, Сен-Жюст -- непримирим, Марат -- неумолим. Берегись, Говэн! Не пренебрегай этими именами. Для нас они стоят целых армий. Они сумеют устрашить Европу.
-- А может быть, и будущее, -- заметил Говэн.
Помолчав, он заговорил:
-- Впрочем, вы заблуждаетесь, учитель. Я никого не обвиняю. По моему мнению, с точки зрения революции правильнее всего говорить о безответственности. Нет невиновных, нет виноватых. Людовик Шестнадцатый -баран, попавший в стаю львов. Он хочет убежать, хочет спастись, он пытается защищаться; будь у него зубы, он укусил бы. Но не всякому дано быть львом. Такое поползновение было зачтено ему в вину. Как, баран в гневе посмел ощерить зубы! "Изменник!" -- кричат львы. И они пожирают его. А затем грызутся между собой.
-- Баран -- животное.
-- А львы, по-вашему, кто?
Симурдэн задумался. Потом вскинул голову и сказал:
-- Львы -- это совесть, львы -- это идеи, львы -- это принципы.
-- А действуют они с помощью террора.
-- Придет время, когда в революции увидят оправдание террора.
-- Смотрите, как бы террор не стал позором революции.
И Говэн добавил:
-- Свобода, Равенство, Братство -- догматы мира и всеобщей гармонии. Зачем же превращать их в какие-то чудища? Чего мы хотим? Приобщить народы к всемирной республике. Так зачем же отпугивать их? К чему устрашать? Народы, как и птиц, не приманишь пугалом. Не надо творить зла, чтобы творить добро. Низвергают трон не для того, чтобы воздвигнуть на его месте эшафот. Смерть королям, и да живут народы. Снесем короны и пощадим головы. Революция -- это согласие, а не ужас. Жестокосердные люди не могут верно служить великодушным идеям. Слово "прощение" для меня самое прекрасное из всех человеческих слов. Я могу проливать чужую кровь лишь при том условии, что может пролиться и моя. Впрочем, я умею только воевать, я всего лишь солдат. Но если нельзя прощать, то и побеждать не стоит. Будем же в час битвы врагами наших врагов и братьями их после победы.
-- Берегись, -- повторил Симурдэн в третий раз. -- Ты, Говэн, мне дороже, чем родной сын. Берегись!
И он задумчиво добавил:
-- В такие времена, как наши, милосердие может стать одним из обликов измены.
Если бы кто-нибудь услышал этот спор, он сравнил бы его с диалогом топора и шпаги.
VIII
Dolorosa [Скорбящая (лат.)]
А тем временем мать искала своих малюток.
Она шла куда глаза глядят. Чем только была она жива? Трудно сказать. Она и сама бы не ответила на этот вопрос. Она шла дни и ночи; она просила подаяние, ела дикие травы, спала прямо на земле, под открытым небом, забившись под куст; иной раз над нею мерцали звезды, иной раз -- ее мочил дождь и пробирал до костей холодный ветер.
Она брела от деревни к деревне, от фермы к ферме, расспрашивая о судьбе своих детей. Она робко останавливалась на пороге. Платье ее превратилось в лохмотья. Иногда ей давали приют, иногда ее гнали прочь. Когда ее не пускали в дом, она шла в лес.
В здешние края она попала впервые, да и вообще-то не знала ничего, кроме своего Сискуаньяра и прихода Азэ, никто не указывал ей дороги, она шла, потом возвращалась обратно, снова начинала тот же путь, делая ненужные крюки. То шла она по мощеной мостовой, то по проселочным колеям, то по тропке, вьющейся среди кустарника. От бродячей жизни вся ее одежда пришла в окончательную ветхость. Сначала она шла в башмаках, затем босая и под конец едва ступала израненными ногами.