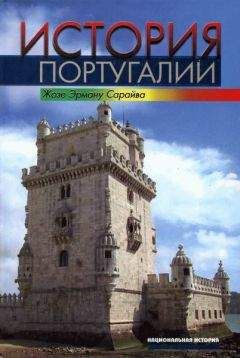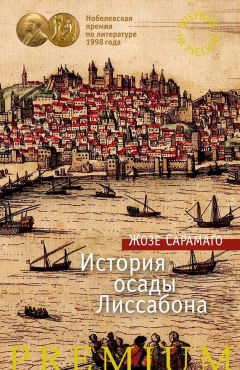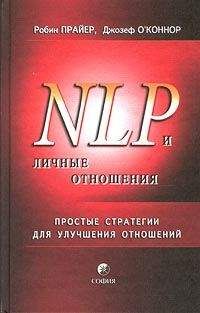Михаэль Вик - Закат над Кенигсбергом
Родители очень плохо выглядели и казались семидесятилетними. Они совершенно завшивели, и отец беспрестанно давил паразитов ногтями больших пальцев — другого способа от них избавиться не было. Единственное доступное дезинфицирующее средство — моча — оказалось в целом негодным: я пытался с ее помощью бороться с чесоткой, но ничего из этого не вышло. Оглядываясь назад, прихожу к выводу, что целебные силы самой природы помогли тем, кто выжил, преодолеть такие болезни, на лечение которых в нормальных условиях ушли бы тонны лекарств. Однако наше общее состояние было скверным, и нужда не уменьшалась. Необходимо было снова что-нибудь предпринять, чтобы найти дополнительное питание. К сожалению, я был настолько слаб, что нечего было и думать о работе плотника или подмастерья каменщика. Я и тому был уже рад, если удавалось без передышки одолеть сотню метров. Итак, я снова ломал себе голову в поисках выхода. Небольшие кражи практически не приносили успеха: пока мне недоставало решимости и собранности.
Летом 1946 года городское электрическое хозяйство расширили, и русским срочно потребовались электрики. Эта работа была не особенно утомительной, и я выдал себя за электрика. Но вышло распоряжение предварительно проверять претендентов. Немецкий мастер выдал мне листок бумаги и карандаш и велел нарисовать схему включения и выключения ламп с нескольких мест, после чего сразу понял, что никакой я не электрик, однако рекомендовал русским принять меня на работу. Мне вновь улыбнулось счастье, и борьба за существование продолжилась. Русские ценили специалистов, а электриков особенно. Они ждали момента, когда смогут наконец пользоваться электричеством, и от электриков, разумеется, многое зависело. Это ремесло не только распахивало двери русских домов, но и давало некоторую прибавку к рациону в виде хлеба или картошки. Кроме того, я нашел новые возможности возобновить воровские вылазки, хотя, как и прежде, ввиду риска для жизни прибегал к воровству лишь в самых крайних случаях, при отсутствии иного выхода. Мы, действительно, прилагали все усилия, чтобы уберечь себя от голодной смерти только с помощью работы и торговли на черном рынке.
Когда в первые дома русских было проведено электричество, спрос на светильники и плафоны резко возрос. Теперь я искал старые электрические патроны и обгоревшие лампы, снабжал их новой проводкой и придавал им приличный вид. Это можно было неплохо продать. Нарезать «золотых обручальных колец» из куска латунной трубки — нет, такой ловкостью я не обладал. Самый большой доход в моей новой отрасли приносили многоламповые светильники. Русским страшно нравились эти старомодные звездообразные железные чудища. Иногда такие лампы попадались среди хлама на выгоревших чердаках. В большинстве своем они были неисправны, но починить их, как правило, удавалось. Поэтому я совершал вылазки в заселенные русскими дома для обследования чердаков. Немногие из моих «коллег» рисковали соваться в самое логово льва, и потому-то там еще можно было отыскать пригодные для продажи вещицы.
Помнится, захожу в подъезд трехэтажного жилого дома, и меня охватывает непривычно сильное беспокойство. Не сказать, чтобы я ясно чувствовал опасность, но такого ощущения тревоги в подобных ситуациях не припомню. Как обычно, тихо поднимаюсь по лестнице в рабочем комбинезоне и в спортивных туфлях. Чердак удивительно хорошо сохранился. Тишина полная, звука открывающихся дверей нигде не слышно, и я, как мне кажется, никем не замеченный, добираюсь до запертой металлической чердачной двери. Большие замки на таких дверях не так-то легко поддаются отмычке, часто их заклинивает. Терпеливо открываю дверь и оказываюсь в набитом старой рухлядью чердаке. Прежде чем приступить к осмотру, прячу отмычку в кармашек для дюймовой линейки на штанине. Про это я не забываю никогда. При ближайшем изучении выясняю, что для меня здесь нет почти ничего полезного — ни одной лампы, только несколько электропатронов. Беру два патрона и медленно спускаюсь по лестнице. Решимости взломать еще и квартиру я сегодня не испытываю.
Когда оказываюсь между третьим и вторым этажом, неожиданно распахивается дверь и выскакивает молодой, еврейского вида, старший лейтенант. Он бросается на меня и начинает избивать с такой яростью, что я, обливаясь кровью, падаю на пол. Пнув меня несколько раз, хватает за волосы и за воротник и тащит по лестнице на улицу. Мы, наверное, представляем собой занятное зрелище: все больше любопытных и довольно улыбающихся русских собирается на нас поглазеть. Каждому ведь приятно, когда «зло» оказывается наказанным. Задыхаясь от ярости, старший лейтенант конвоирует меня в ближайшее отделение милиции. Наверное, у него была мысль застрелить меня в подъезде — так, по крайней мере, мне там показалось. Но при мне не было ничего ворованного, и он оставил меня в живых. Позже я узнал, что несколькими днями раньше в этом доме была совершена кража со взломом. Моим коллегам повезло, по-видимому, значительно больше, и этот офицер, вероятно, оказался в числе жертв. Надо сказать, что все, исключая моего отца, считали кражу у русских героическим и справедливым поступком, и многие кенигсбержцы, как правило совсем молодые, уже давно освоили это ремесло, чтобы обеспечить себе шансы на выживание. Только никто, конечно, другим о совершенном взломе не рассказывал, и поэтому было неизвестно, от каких мест следовало держаться подальше. На сей раз мне не повезло, а значит меня, как это было с некоторыми кенигсбержцами, ждет скорый суд и отправка в Россию, в трудовой лагерь. Так обычно поступали с пойманными ворами.
Но все оборачивается иначе. Оказавшись в отделении, мой старший лейтенант никак не может успокоиться. Поставив меня перед собой, он безостановочно и взволнованно излагает происшествие милиционеру. Тот немного старше лейтенанта и кажется совершенно невозмутимым. Замечаю, однако, что его попутно заданные вопросы раздражают старшего лейтенанта еще больше. Он снова выходит из себя и набрасывается на меня с кулаками. Еще раз пытается найти ворованные вещи, особое внимание уделяя моей сумке с инструментами. Но отмычек, к моему великому счастью, не находит. Все яростнее кричит, притискивает меня к стене и начинает раздевать. Приспускаю штаны в надежде на то, что признак нашей общности смягчит его ярость. Но куда там. Он хватает меня за волосы и начинает бить затылком о стену до тех пор, пока у меня не подгибаются колени и я не сползаю на пол. Затем он возвращается к столу милиционера.
Еще не вполне придя в себя, вижу, как милиционер неохотно усаживается за пишущую машинку и начинает печатать то, что офицер ему зло и возбужденно диктует. Проходит некоторое время, прежде чем они заканчивают, и мой мучитель размашисто расписывается в протоколе. После этого исчезает, высказав напоследок какую-то угрозу — вероятно, по адресу милиционера. Трудно не заметить неприязненного отношения милиционера к старшему лейтенанту. Может быть, милиционер антисемит или ему не понравилась сама сцена, а может, все дело в отсутствии улик.
Сидя в углу, пробую угадать, как будут разворачиваться события. Время от времени принимаюсь объяснять милиционеру, что ничего не крал. Он не отвечает. Так проходит несколько часов, а потом, по-видимому перед окончанием своего дежурства, милиционер подходит, держа в руке показания офицера, и что-то строго говорит. До меня доходит общий смысл его слов: «Ступай, но не вздумай еще раз попасться этому офицеру, не то и у меня будут неприятности». После этого он разрывает оба листка с подписью истца, открывает дверь и выпускает меня на свободу.
Человечность милиционера и ненависть еврейского офицера — все это плохо укладывалось в голове.
Вода и электричество
Я выдумал такую уловку: выбрав дом, к которому уже было подведено электричество, я отсоединял одну фазу на распределительном щитке, находившемся, как правило, у входа, ждал, пока у щитка не соберутся беспомощные жильцы, и появлялся, как бы случайно. «Специалиста» радостно приветствовали, и я с напускным великодушием предлагал свою помощь. После многозначительных манипуляций с контрольной лампой устранял неполадку и требовал вознаграждения. Несколько раз эта проделка удавалась, но однажды я попал в дом, в котором жил русский электрик. Он разгадал мою уловку и вытолкал меня из подъезда взашей. После этого выдумка со щитком утратила в моих глазах свою привлекательность, и я переключился на изготовление антенн. Они представляли собой куски проволоки, натянутые между двумя фарфоровыми изоляторами — и ничего больше. За них давали по полбуханке хлеба. При всех стараниях, однако, этого не хватало, чтобы прокормить троих, по крайней мере, на несколько дней не хватало.
Отношения с отцом по-прежнему оставались крайне натянутыми. Нелегко воспроизвести наши перепалки, от которых было тяжело обоим. Мы постоянно стремились оправдать друг перед другом собственные взгляды на жизнь: его сомнительная пассивность и моя сомнительная активность должны были посредством еще более сомнительных философских конструкций предстать как хорошее или дурное, правильное или неправильное поведение. Отец рассуждал о том, что зло гибельно, ибо всегда рождает зло (цитата из «Валленштейна» Шиллера. — Примеч. пер.). Здесь я усматривал намек на свои занятия воровством. Он говорил о воздействии на мир мудрецов, которое постоянно умножает в нем гармонию и любовь. Кумирами отца были непротивленцы вроде Ганди и Будды, а моими — такие люди действия, как Моисей и Вильгельм Телль. Правда, отец был Ганди лишь постольку, поскольку мало что делал; а я Моисеем — поскольку обворовывал русских «египтян», но кому удавалось достичь высот своих кумиров? Изо дня в день мы решали вопрос: всегда ли следует ориентироваться на благородные образцы поведения или в нашей экстремальной ситуации требуется что-то иное? правильно ли и благородно ли умереть, ничего не делая, вместо того чтобы красть и остаться в живых?