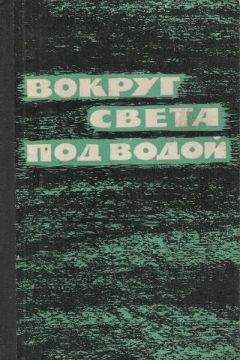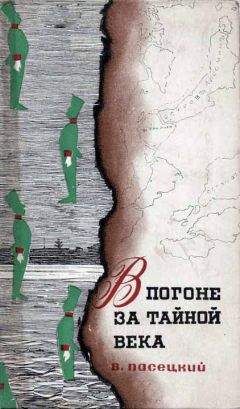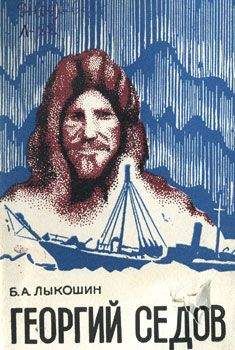Н. Пинегин - В ледяных просторах
Начиная со второй половины апреля бухта Тихая подверглась нашествию медведей.
Первый появился 21 апреля. Я писал этюд у полыньи в километре от корабля. Этот — не походил на труса! Гоня перед собой Пирата и Разбойника, бродяга, не удостаивая их взглядом, держал прямо на меня. Не доходя шагов двести, он остановился и стал тщательно принюхиваться. В подтверждение старой «Фокинской» приметы со мной не оказалось винтовки, чтоб сразу же отбить охоту мешать художникам, — уходя с корабля, я взял дробовое ружье — на люммов, летавших с полыньи к Рубини-Року. В патронташе лежали две пули для гладкоствольного ружья. Я попробовал выстрелить, но очевидно расстояние было слишком велико для круглой пули. Медведь, не удостоив взглядом фонтанчика, взброшенного ею, побрел к полынье и бросился в воду. Считая, что противник сыт и меня оставит в покое, я принялся за работу и скоро забыл о случившейся помехе.
Прошло с полчаса. Заканчивая этюд, я случайно оглянулся, и увидел того же медведя на старом месте. Снова выстрелил в него и снова пуля не долетела; но на этот раз медведь не ушел, а стал приближаться, осторожно заходя на ветер.
Я понял: работы мне не кончить. Художник осаждаем по всем правилам медвежьей стратегии. Около «Фоки» копошились люди. Сначала никто не обращал внимания ни на выстрелы, ни на самого меня. Однако, когда медведь, совершая обходное движение, вышел на фон Рубини-Рока, на «Фоке» заволновались. Через полчаса подбежал Павлов. Впопыхах он захватил вместо моей — винтовку Седова, которую я ни разу не держал в руках. Медведь, завидя людей, повернул к полынье и поплыл на ледяное поле в средине ее. Мы рассмотрели в бинокль, что зверь на редкость велик.
Охота началась в шесть часов вечера. Только во втором часу, когда я был мокр с ног до головы, а Павлова и до крайности продрогшего Пустотного сменил Инютин, собаки загнали медведя на вершину стометрового откоса на острове Скотт-Кельти. Под конец охота приобрела опасный характер. Матерый, хладнокровно разгонявший собак, зверь залег под лавиной вверху откоса и лениво шипел. Взобраться на крутой откос, не имея хороших когтей, — сложное дело. Около часа мы рыли ступеньку за ступенькой в оледенелом снегу. Прочно утвердившись шагах в тридцати от медведя, я выстрелил в голову. Потом оказалось: пуля, пробив скулу, не задела мозга. После выстрела подумалось: «с чужим ружьем плохая охота!» Положение было таково: на крутом и скользком склоне два охотника с одним ружьем, над головой у них легко раненный медведь приготовился к прыжку. В обойме ружья последний патрон, а — хуже всего — выстрелянная гильза застряла. Выручили собаки. Разбойник тотчас после выстрела вцепился в шею. Медведь отряхнулся. Разбойник полетел вниз кувырком, но прыжок был задержан. Мы поняли: останься мы тут же, медведь неминуемо сбросит нас вниз, даже в случае, если следующий выстрел будет смертельным. Отошли в сторону на несколько метров и встали за низкой скалой, высунувшейся из снега. Оттуда я послал последнюю пулю. Попал удачно — в ухо. Зверь стремительно полетел вниз, ударился с размаху о скалу, за которой мы прятались, взметнул тучу снега и, крутясь, как ком снега, рухнул дальше без задержки. Мы спустились. Медведь был жив; бессознательными движениями он задевал собак. Охоту пришлось окончить при помощи ножа.
Добыча стоила восьмичасовой погони — огромнейший самец: от носа до хвоста 2 метра 60 сантиметров.
Следующий медведь подошел к самому судну ранним утром через день. Лебедев сильно ранил его. Выбежав в одном белье, я одним выстрелом прикончил посетителя. В то же время другой бродил у полыньи. Пока я одевался, за ним погнался Кушаков. Этот — спасся в полынье.
Двадцать пятого апреля, только что закончив свою работу, я заметил у полыньи медведицу с взрослым медвежонком. Приблизившись шагов на полтораста, я лег на лед и стал наблюдать. Медведица учила медвежонка нырянию. На бегу она оглядывалась, звала детеныша, скрывалась в туче радужных брызг, вылезала и подталкивала непонятливого ученика. В разгар упражнений мамаша заметила меня и повела питомца в сторону проливов. Я отпустил семейство без выстрела. Мяса у нас достаточно.
День был солнечный, с тишиной и миром. Павлов видел с горы всю сцену и потом за обедом разглагольствовал:
— Прелестный день, солнышко греет, блестит вода и видать, как скотинка пасется.
В ночь на 28 апреля во втором часу я вышел на палубу и не сразу заметил, что меня пристально рассматривает Михайло Иванович, розовый от низких солнечных лучей. Я тихонько попятился и скользнул за дверь, торопливо накинул пиджак и, натянув сапоги, вышел с ружьем. Медведя уже спугнул Пират. Вскоре медведь устыдился своей трусости и стал гоняться за Пиратом. Я прервал эту охоту выстрелом. Мне казалось, я сделал промах, — медведь продолжал гнаться за собакой. Пробежав десятка четыре метров, он вдруг свалился, как подрезанный, не пошевельнув ни одним членом. Пуля пробила сердце. Через полчаса увидали еще двух медведей, плававших на льдине. Шагах в пятистах мы открыли стрельбу и тяжело ранили обоих. Кушаков с Пустотным добили одного, другой уплыл на льдину, окруженную со всех сторон шугой, и там издох.
Через день среди ночи всех поднял на ноги огромный зверь. Я убил его у края полыньи. Катаясь в предсмертных судорогах, медведь свалился в воду. Сильный ветер быстро понес его от берега. Пока сбегали на судно и доставили шлюпку, туша исчезла.
Первого мая я сидел с этюдным ящиком у полыньи. Опять случилась помеха — медведь. Этот без колебаний шел прямо на меня. Но и я был с винтовкой. Подпустив незваного гостя поближе, я убил его парой выстрелов.
Этюд я все же сделал. Я зарисовывал «Бродягу».
«Бродягой» мы окрестили большой айсберг, вечно скитавшийся по бухте. Свое название он получил еще с осени; весной мы собирались переименовать его «Ледоколом Ермаком». Вся полынья — работа «Бродяги». Айсберг иногда по неделе стоял неподвижно, потом внезапно приходил в движение и, касаясь краев полыньи, принимался крошить лед. Особенно красиво движение айсберга, когда он, проплыв полынью из края в край, врезается в берега ее, — размолотый лед тогда пеной опоясывает бока «Бродяги», а следом протягивается длинный канал. Странно видеть, как шестидесятиметровая глыба, похожая на голубой корабль без мачт, начинает дробить лед, двигаясь против сильного ветра. На первый взгляд такое движение кажется совсем непонятным. Нужно вспомнить, что пресный лед сидит в морской воде на 7/s своей толщины, — по этой причине всякое давление на подводную часть айсберга должно давать эффект во много раз больший, чем такое же давление на часть надводную [97].
Резко оборвавшиеся холода больше не возвращались. С удивлением мы замечали, что климат ранней весны Земли Франца-Иосифа мягче Новоземельского. Ранее началось таяние снегов. По льду проливов Новой Земли мы беззаботно ходили до августа, — здесь лед, разъеденный сильными течениями, рано ослабел. Во время моей экскурсии на южный берег о. Хукера — совместно с Павловым в первой половине мая — мы принуждены были возвратиться раньше срока. В одном месте Де-Бруин-Зунда я внезапно провалился в воду и только тогда заметил, что некоторое время шел совсем не по льду, а по толстому слою плотно слежавшегося снега, висевшего над водой. Лед под ним разъеден без остатка. Предполагалось обойти весь берег Хукера. Мы вышли слишком поздно: лед у юго-восточной оконечности был очень слаб и для путешествия на санях непригоден. Возвращаясь, мы говорили: «Неужели весна?»
Да, начиналась настоящая весна. Вытаивали камни; медленно, очень медленно, но обнажались склоны гор, и в оттаявших местах уже вязла нога. Ветры умерили свое дыхание, между горою и нами повис тонкий пар. Стал часто набегать туман. Когда показывалось солнце, слегка пригревало.
Задорно и весело щебечут в эту пору снежные жаворонки, резво перепархивают по проталинам и проливают трели, взмывая кверху. А на проталинах первые точечки — травинки.
«Взъерошенные, с трепетом тонких крылышек, токуют серые комочки — кулички-перебежники, и пляшут около самок. «Плью-плью-плью, тлюннь, — кликк, кликк» — с таким боевым криком вступают в бой с соперниками, таким же и прельщают. Страстно стонут в пресной луже белобрюхие самцы гаг, а серые самки кокетливо-безразлично охорашивают перышки и приоткрывают крылья. Стайка гусей в вышине вливает свои крики в хор у нашего становища.
А хор велик и многоголосен. Выше прибрежной равнины и склона — грозная стена базальтов. На ней день и ночь журчит беспрерывным, неразборчивым шумом неустанное гоготание маленьких нырочков. Мы привыкли, почти не слышим ни его, ни дальнего курлыканья люммов, не замечаем и шороха льдин на полынье. Ведь все это так же беспрерывно и монотонно, как тикание маятника или городской шум. Только заслышав отдаленный крик моржа, густой и гулкий, прислушаешься и разберешься в отдельных голосах полярного весеннего шума.