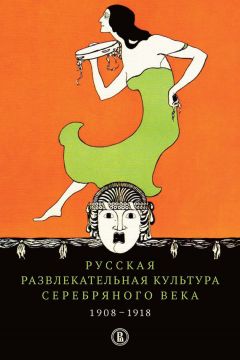Николай Богомолов - Вокруг «Серебряного века»
Снова выстроим хронологию экзаменационной страды Брюсова. 1 апреля он сообщал П. П. Перцову: «…попробовал было я готовиться к экзаменам и высчитал, что, напр<имер>, по Цицерону (что составляет лишь часть латинского экзамена) мне надо бы 42 дня, а у меня их для всех экзаменов 27. Конечно, это мстит факультет за ничегонеделание в году…»[249] 3 апреля 1895 г.: «Живу и готовлюсь к экзаменам, т. е. почти не живу; готовлю, однако, и 3-й вып<уск>»[250]; 12 апреля (в письме к Станюковичу): «Надвигающиеся экзамены погрузили меня и на этот раз в ежечасную работу» (ЛH. Т. 85. С. 734). 25 апреля: «Греч<еская> ист<ория>»; 3 мая: «Экз<амен>. Псих<ология>»; 7 мая: «Положение ужасное. Греческий экз<амен> (самый важный!) и страшный флюс, такой, что глаз затекает. Борюсь. Ты везешь Цезаря и его счастье!»; 12 мая: «Выздоравливаю! о блаженство! Начал даже опять стихи писать. Экз<амен> получен»; 26 мая: «Русс<кая> Ист<ория> V Курс»; 26 мая, 9 ч. веч.: «Остается пытки (т. е. приготовл<ения> к экз<амену>) два часа — и я, одолевший вот 30 дней непрерывных занятий, не знаю, хватит ли у меня мужества на эти два последних часа». Наконец, 31 мая: «26-го кончился месяц пыток». Итогом этого «месяца пыток» явилась фраза в письме к В. К. Станюковичу от 23 июня: «Экзамены прошли хорошо, и я избрал классическое отделение» (ЛH. Т. 85. С. 736).
Небезынтересны и еще две записи, связанные с этой процедурой. Одна из них сделана, видимо, 23 апреля 1895 (судя по положению в дневнике): «Экзамены, видимо, навсегда останутся для меня выставкой. Готовясь, я приспосабливаю тон, жесты, невольно сочиняю эффектные диалоги между мною и гг. экзаменаторами». А чуть далее, 27 апреля: «Известно, что, готовясь к экз<аменам>, я всегда читаю романы, но известно ли, что я до сих пор не могу читать их без волнения, а иной раз без подступающих слез! Черт знает что такое, особенно когда роман далеко не талантлив».
3. Незавершенный семестр
Известие о переходе на классическое отделение Брюсов повторил в письме к тому же В. К. Станюковичу уже в сентябре, с характерным добавлением: «Поступил я, друг мой, на классическое отделение своего факультета и теперь погружен с головой в греческий язык, латинский и санскрит. Можно ли было это думать в те дни, когда Фолькман лепил мне двойки!» (Л Н. Т. 85. С. 737). Здесь Брюсов намекает на описанный им самим эпизод, относящийся к первым годам в гимназии Креймана: «По латыни, пока мы повторяли старое, я учился хорошо, и учитель, некто Фолькман (не очень большой знаток древних языков), считал меня прекрасным учеником. Но когда подошли мы к глаголу, который мы с Сергеем Петровичем не проходили, а по курсу полагалось Indicativus Activum, Passivum, задано было повторение всего Indicativus. Я посмотрел-посмотрел, убедился, что в один вечер выучить это очень трудно, и не стал учить вовсе. <…> Он <Фолькман> поставил мне 1. С тех пор я попал в разряд плохих учеников по латыни»[251].
Парадокс, однако, состоит в том, что никогда Брюсов-гимназист, насколько мы можем судить по документам, не был безупречен в области изучения классических языков (вспомним тройку по латыни на выпускных экзаменах!), тогда как именно они считались в России того времени непреложной основой филологического образования. Позже он писал: «Последнее время исключительно занимаюсь Древним Римом и римской литературой, специально изучал Вергилия и его время и всю эпоху IV века — от Константина Великого до Феодосия Великого. Во всех этих областях я, в настоящем смысле слова, специалист; по каждой из них прочел целую библиотеку»[252]. И действительно, эрудиция Брюсова в сфере античности была весьма велика[253], но познания в классической филологии время от времени вызывали сомнения в своей основательности. Не считая себя вправе быть судьей в этом вопросе, сошлемся на мнение авторитетнейшего русского филолога-классика, сказавшего про Брюсова: «…гордый своей гимназической латынью…»[254]. Тем не менее все же он переводится именно на классическое отделение, требовавшее особенного совершенства в не слишком легко дававшихся предметах.
Рискнем опять-таки предположить, что именно отчетливое устремление Брюсова к постоянному преодолению трудностей заставило его специализироваться в этой области (при том, что и на любом другом отделении знания в области древних языков и истории были в высшей степени обязательными). Как бы к этому ни относиться, но сама по себе воля к овладению трудно дающимися сферами знания почтенна и заслуживает несомненного уважения.
Следует принять во внимание, что к этому моменту Брюсов уже обладал определенной репутацией не только в студенческой среде. В августе 1895 года, как мы говорили, вышел третий выпуск «Русских символистов», и почти сразу же после него — «Chefs d’oeuvre» (первую книгу он получил 17 августа, вторую — 24-го). Уже 1 сентября Брюсов обрел и своеобразный «патент на благородство»: в «Новом времени» ему был посвящен очередной «критический очерк» В. П. Буренина с выразительным подзаголовком «Литературное юродство и кликушество». Вдобавок к этому летом вышла книга А. Н. Емельянова-Коханского «Обнаженные нервы», воспринятая публикой и большинством газетных обозревателей как явление того же литературного ряда, что и произведения Брюсова. Для самого Брюсова это казалось абсурдом[255], но эффективно бороться с общественным мнением он не был в состоянии, тем более что Коханский включил в книгу и ряд стихотворений самого Брюсова. 8 сентября Брюсов записывает в дневнике: «Ругательства в газетах меня уже мучат. Веду, насколько могу, полемику (см. „Нов<ости> Дн<я>“)»[256]. И вообще, осень 1895 года — время все нарастающей полемики вокруг московских символистов и самого Брюсова в частности. Это не могло не сказаться на его репутации в университете, куда он с энтузиазмом принялся ходить. В дневнике: «5 <сентября> В<торник>. В универс<итете> дн<ем>»; «6 <сентября> С<реда>. В универ<ситете> etc.». Но уже к 10 сентября он записывает: «Вчерашняя история с Коганом[257], кот<орый> прямо заявил, что с людьми, пишущими то, что пишу я, не подобает быть знакомыми, — расстроила меня окончательно. Я и так потрясен анонимными письмами, и pro domo suo (вместо sua), вчера же все мои друзья, кроме Фриче, выказали себя очень дурно», а следующий день отмечен знаменательной записью:
«„Записка на необязательные лекции закрывается 16-го сентября“. И я хочу закрыть записку, записку на мое сердце. Довольно! Вы мучили меня, но теперь я буду вас мучить. Я всем открывал душу, теперь я заставлю ее металлической дверью. Поздно стучаться… Я ее не отопру.
Сегодня в универс<итете>, когда я вызвался читать Аристофана, везде раздался шепот, шипение: „Декадент“, „Декадент“. А! Так-то! Берегитесь!
Только искреннее сочувствие Самыгина и Шулятикова успокоило меня немного».
Пересказывая эту историю своему давнему другу В. К. Станюковичу, Брюсов говорил несколько подробнее: «Бесконечно возмутило всех предисловие. Сознаюсь, я там пересолил немного, но ведь надо стать в положение человека, которого полтора года безустально ругали во всех журналах и газетках. Как бы то ни было, вознегодовали все, и некто г. Коган заявил даже, что напечатай я свое предисловие раньше — он не счел бы возможным вступить со мной в знакомство. <…> негодование приняло такие размеры, что когда недавно в университете я стал читать Аристофана, аудитория недовольно зашипела и до меня долетело слово „декадент“» (ЛH. Т. 85. С. 737). Впрочем, и старый друг отнесся к посланной ему книге весьма отрицательно.
Но и в этой ситуации волевая природа Брюсова заставила его преодолевать возникавшие барьеры. 24 сентября 1895 года он пишет А. А. Курсинскому: «…я весьма занят рефератом Шварцу…» (ЛН. Т. 98, кн. 1. С. 304). 7 октября в дневнике: «Неудачн<ый> (кажется, а, впрочем…) реферат Шварцу». Там же, в дневнике, 21 или 22 октября: «В Пят<ницу> 13-го — с туманной головой спорил с Гротом. 19-го блистательно читал свой реферат Коршу. В универс<итете> на меня начинают „посматривать“». 10 ноября: «Два реферата в унив<ерситете>». 13 ноября: «Затем взял семинарскую работу — Mimiambes des Herodes». И перелом происходит, о чем явственно говорит запись в дневнике от 21 ноября: «„Успехи“ все растут. После благосклонной заметки в „Рус<ском> Лист<ке>“, после симпатизирующего нам интервью в „Новостях“ — узнаю, как относятся ко мне мои сотоварищи-студенты. Недавнее „у-у“, декадент прошло бесследно. „Да, — говорит NN в пересказе Самыгина, — „Ch<efs> d’O<euvre>“ книга очень замечательная; много в ней найдется и для психолога, и для философа, и для чистого эстетика“». Любопытно, что в том интервью, на которое ссылается Брюсов, несколько раз подчеркивается связь символистского движения с университетским образованием[258].