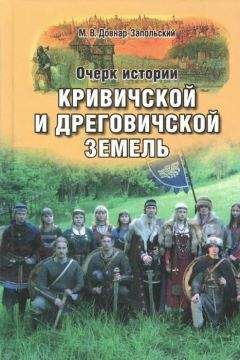Тит Ливий - Война с Ганнибалом
Консулы были поражены. Полагая, что в этом случае уместнее и полезнее суровое внушение, чем мягкие уговоры, они отвечали посланцам:
– Вы дерзнули сказать консулам такие слова, которые мы перед сенатом повторить не решимся. Это не просто отказ от военной службы, но прямой бунт против римского народа. Возвращайтесь к себе и обсудите всё еще раз. Ведь вы не кампанцы и не тарентинцы, вы римляне, вы родом отсюда, отсюда вы были выведены в колонии, на землю, отнятую у врага. Ваш долг перед Римом тот же, что у детей перед родителями, а вы задумали изменить Римской державе и вручить победу Ганнибалу. Где же сыновние ваши чувства, где память о древнем вашем отечестве?
Но речи консулов не тронули латинян. Они твердили свое – что возвращаться домой им не с чем и обсуждать нечего, ибо города их обезлюдели, а казна опустошена. Видя их упорство, консулы сделали доклад сенату. Ужас охватил сенаторов, многие говорили, что Римская держава погибла, что за этими колониями последуют остальные, а за колониями – союзники, что вся Италия решилась предать Рим Ганнибалу.
Консулы как могли успокаивали сенаторов, заверяя, что прочие колонии несомненно исполнят свой долг, да и эти, мятежные, образумятся, если обойтись с ними построже, и сенат поручил консулам действовать так, как они сочтут нужным в интересах государства. Прежде всего консулы пожелали выяснить, каково настроение умов в других колониях, и встретились с их посланцами, которые тоже находились в Риме. На вопрос консулов, приготовлены ли у них воины в согласии с договором[79], Марк Секстилий из Фрегёлл от имени восемнадцати колоний ответил, что воины приготовлены и что, если будет надобность, они выставят еще и вообще исполнят любое приказание римского народа – есть у них к тому и силы, и средства, и мужество в избытке! Консулы нашли недостаточным похвалить их сами и привели посланцев в курию, а сенат принял в их честь особое постановление и поручил консулам доложить обо всем в Народном собрании, чтобы и народ выразил им свою признательность.
Что же до тех двенадцати колоний, которые отказывались повиноваться, сенат запретил даже упоминать их названия, их послы не получили никакого ответа – ни разрешения уехать, ни просьбы остаться. В этом немом порицании наилучшим образом обнаружили себя величие и достоинство римского народа.
Наконец консулы выехали к войску. Фабий просил Фульвия и отправил письмо Марцеллу, чтобы каждый из них постарался отвлечь внимание Ганнибала, а он, Фабий, тем временем осадит Тарент. Если этот город будет отбит у врага, утверждал он, пуниец покинет Италию, потому что Тарент – последний его оплот. Написал Фабий и в Регий, начальнику караульного отряда, поставленного в минувшем году консулом Марком Валерием. Отряд, как мы уже говорили, состоял в основном из разбойников и воров, которых Валерий перевез туда из Сицилии; к ним прибавились перебежчики-бруттии, тоже всё люди отчаянные. Повинуясь приказу консула не только что охотно, но с величайшим удовольствием, эти головорезы опустошили поля Бруттия, перебили, разогнали и разорили всех, кого смогли.
Следом за поражением – победа.
Марцелл выступил с зимних квартир, как только пробились всходы в полях и поднялась на лугах трава, иначе говоря – появился подножный корм для коней. Места в середине Апулии открытые, засады здесь невозможны, и Ганнибал принялся отходить к лесам. Марцелл следовал за ним по пятам, лагерь разбивал рядом с неприятельским и, едва натянув палатки и насыпав вал, выстраивал легионы к бою. Пуниец высылал вперед конницу и легкую пехоту, завязывал короткие стычки, не ит большого сражения отказывался. Однажды Марцелл настиг врага ночью на марше. Завидев римлян, карфагеняне сразу начали разбивать лагерь, но римляне нападали со всех сторон; пришлось оставить работы и сражаться. Битва началась утром и длилась до вечера, тем не менее решительного успеха ни та, ни другая сторона не достигла.
Назавтра, чуть рассвело, Марцелл снова построил своих в боевую линию. На этот раз и пунийцы были намерены сражаться. Ганнибал произнес длинную речь, напоминал солдатам о Каннах и Тразименском озере, призывал их укротить высокомерие противника.
– Что ж это, в самом деле! – восклицал он. – Нас теснят день и ночь, не дают покоя в пути, не дают поставить лагерь, не дают оглядеться и отдышаться! Что ни утро, мы видим на небе восходящее солнце, а на земле – римлян в боевом порядке! Проучим же их, как полагается, – вперед они будут тише и спокойнее!
Карфагенянам надоела и опротивела дерзкая настойчивость римлян, и полководцу нетрудно было их разжечь. С яростью ринулись они в сражение и бились, не остывая, больше двух часов. Правое крыло римлян (его занимали союзники) отступило. Марцелл вывел подкрепления – восемнадцатый легион, но легионеры не спешили занять место отступавших в беспорядке союзников, и замешательство перекинулось и в центр, и на левый фланг; страх победил стыд, и римляне бежали.
До двух тысяч семисот человек было убито, и шесть боевых знамен достались врагу.
Вернувшись на стоянку, Урцелл обратился к воинам с такою гневною речью, что она показалась им горше самого поражения.
– Слава бессмертным богам, – сказал он, – что пуниец гнал вас только до вала и до ворот, – он мог бы гнать вас и до палаток, и вы бы бросили лагерь в том же слепом страхе, в каком бросили свое место в строю! Откуда он, этот страх? Вы что, злбыли, с кем сражаетесь? Вы сражаетесь с врагом, которого бил:* всё прошлое лето, который отступал перед вами все последние дни, которого вы измотали мелкими схватками, которому еще вчера не давали шевельнуться свободно. Что же переменилось за эти сутки? Может быть, вас стало меньше или неприятелей больше? Нет, не в этом дело, переменились вы сами – лишь тела у вас прежние да оружие, а души другие. Иначе разве увидел бы пуниец ваши спины, разве отнял бы у вас знамена?
Тут поднялся крик, чтобы он простил им этот день, чтобы испытал их снова, когда захочет.
– Да, – заключил Марцелл, – я вас испытаю, и не когда-нибудь, а завтра, чтобы вы победили и победителями просили прощения у вашего полководца!
Союзническим когортам, которые потеряли знамена, он велел выдать ячмень вместо пшеницы[80], центурионам манипулов, потерпевших тот же позорный урон, приказано было отстегнуть мечи и снять пояса. На этом сходка закончилась. Воины признавались друг другу, что осрамили их и опозорили по заслугам, и что не было в этот день во всем войске ни одного настоящего мужчины, кроме Марцелла, и что позор надо смыть либо смертью, либо блестящею победой. Назавтра все явились к палатке Марцелла в полной боевой готовности. Командующий сообщил, что в первом ряду поставит зачинщиков бегства и когорты, потерявшие свои знамена. Но сражаться, продолжал он, все должны с одинаковым упорством, чтобы нынешние радостные вести пришли в Рим раньше вчерашних, печальных. Еще он сказал, что надо хорошо поесть, чтобы не обессилеть в битве, если она затянется надолго.
Когда Ганнибалу доложили, что римляне опять строятся в боевой порядок, он воскликнул:
– Этот человек не способен мириться с судьбою, какая бы она ни была, несчастная или счастливая, все равно! Если он в выигрыше, то бешено наседает побежденному на плечи, если в проигрыше – старается схватить победителя за горло!
С обеих сторон сражались намного более ожесточенно, чем накануне. На левом крыле у римлян были когорты, опозоренные вчерашней потерею, на правом – восемнадцатый легион; флангами командовали легаты Марцелла, себе же он выбрал центр, чтобы лучше видеть все происходящее собственными глазами и вовремя ободрить или пристыдить солдат. Положение долго оставалось неопределенным, и Ганнибал распорядился выпустить вперед слонов. В первую минуту римляне растерялись и дрогнули; те, кто был ближе к слонам, повернули вспять и, заражая своим испугом соседей, расстроили боевую линию.
Бегство разлилось бы гораздо шире, если бы не военный трибун Гай Децим Флав. Он схватил знамя первого манипула копейщиков, и весь манипул ринулся следом. Примчавшись к тому месту, где сгрудились слоны, Децим приказывает метать в них копья и дротики. Никто не промахнулся, потому что расстояние было ничтожное, а цель необъятно большая. Раненые животные тут же бросились назад, увлекая за собою и невредимых. Теперь уже не один манипул, но каждый воин, который оказывался вровень с бегущими слонами, метал в них копье.
Взбесившиеся от боли животные стали топтать своих и погубили куда больше людей, чем перед этим у римлян, потому что вожак, который сидит у слона на спине и направляет его шаги, – погонщик куда менее искусный, чем страх, засевший у зверя в сердце. Римская пехота уже без труда довершила то, что начали слоны.
На бегущего неприятеля Марцелл бросает конницу, и она гонит пунийцев вплоть до самого лагеря. А в довершение всех бед случилось так, что два раненых слона повалились как раз в воротах, и беглецам пришлось перебираться через ров и через вал. Тут-то их и погибло всего больше. Враги потеряли до восьми тысяч воинов и пятерых слонов. Впрочем, и римляне заплатили за победу кровью: в легионах пало тысяча семьсот бойцов, у союзников – тысяча триста.