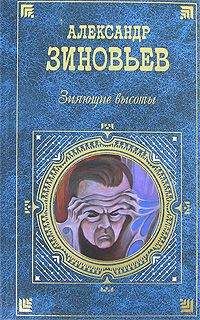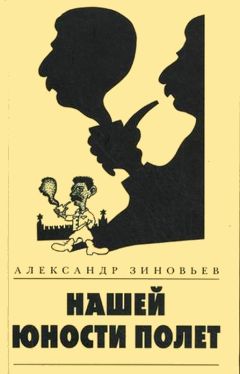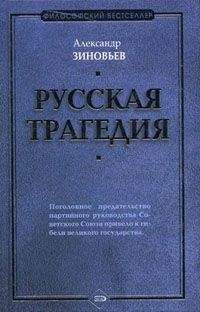Александр Зиновьев - Русская судьба, исповедь отщепенца
В танковом полку меня сразу же определили в штаб. Узнав, что я хорошо черчу схемы и знаю немецкий язык, меня тут же взяли в секретный отдел. Кроме того, я сам высказал идею во внеслужебное время заниматься немецким языком с офицерами полка. И как-то незаметно получилось так, что я стал помогать политруку готовить политические информации. Короче говоря, я стал уважаемым человеком в полку. Мне присвоили звание сержанта. Я был наверху блаженства. Полк был небольшой по числу людей и очень дружный. Кормили много лучше, чем в кавалерии. Хлеб выдавали не порциями, а без всяких ограничений. Служба была легкая. Я стал регулярно заниматься спортом и окреп физически. Во мне произошел психологический перелом. Я вступил в оптимистическую и жизнерадостную фазу, которая продолжалась затем до конца службы в армии. Я был сыт, здоров. Появилась уверенность в том, что я все-таки ускользнул от "них" и не поддамся в будущем. Появилась бесшабашность. Я все чаще собирал вокруг себя людей, желающих послушать мои шутовские импровизации и повеселиться. И даже война и все связанные с нею злоключения не смогли разрушить и даже ослабить это состояние. Даже наоборот. В обстановке военных лет я почувствовал себя как рыба в воде. К стыду своему, должен сознаться, что, когда кончилась война, я сожалел об этом.
НАКАНУНЕ ВОЙНЫ
Советская идеология и пропаганда долгое время оправдывала поражение первых лет войны тем, что Германия якобы коварно и неожиданно напала на нас. Это мнение по меньшей мере бессмысленно. Надо различать неожиданность войны и неготовность к ней. Страна готовилась к войне, но не успела подготовиться. К началу войны были, например, уже сконструированы замечательные самолеты-штурмовики Ил-2, на которых мне предстояло летать. А серийное производство их наладили лишь в середине войны. Решение готовить десятки тысяч летчиков было принято еще до войны, а реализовано оно в полной мере было лишь во второй половине войны. Даже первый реактивный самолет был сконструирован и испытан в Советском Союзе до войны. Но советские реактивные самолеты так и не были приняты на вооружение в армии. Это сделали первыми немцы лишь в конце войны (я имею в виду Ме-262). Еще до войны стали производить автоматическое оружие, но армия начала войну с чудовищно устаревшими винтовками. Замечательный танк Т-34 был сконструирован тоже до войны. А войну начали с примитивными Т-5 и еще более примитивными бронемашинами Б-10.
Возникает вопрос: почему страна не успела подготовиться к войне? Тут сработал целый комплекс причин. И среди них решающую роль, на мой взгляд, сыграли объективные свойства самого коммунистического социального строя и его системы власти и управления. В этом направлении я стал задумываться уже в то время. Одно дело - принять решение. И другое дело - его исполнить. Речь шла не об отдельном простом действии отдельного человека, а об огромной стране с многомиллионным населением, с определенным человеческим материалом, с гигантской системой власти и управления, с различием интересов различных групп людей и т. д. Одно и то же решение различно интерпретируется различными людьми. Способы исполнения решения могут быть различными. Социальные процессы имеют определенные скорости протекания. На все нужно время. Возникают непредвиденные последствия. Добрые намерения имеют результатом зло. Короче говоря, страна - не рота солдат. А ведь и в роте не все и не всегда идет так, как надо. Именно в период подготовки к войне и в ходе ее коммунистический социальный строй обнаружил все свои сильные и слабые стороны. Сначала слабые. Они обнаружились очевидным образом. Сильные начали сказываться позднее и сначала неявно.
Война оказалась неожиданной. Но для кого и в каком смысле? Она оказалась неожиданной для высшего руководства страной, которое надеялось на больший срок мира с Германией. Она оказалась неожиданной в том смысле, что мы были много слабее, чем думали, а противник оказался много сильнее, чем его нам изображали.
Для нас, солдат, никакой неожиданности тут не было. Незадолго до начала войны наши части инспектировал сам Г.К. Жуков. Тогда он был командующим Киевским военным округом. Я помню, как он с группой генералов и офицеров ворвался в нашу казарму - был мертвый час после обеда. Мы вскочили. Он выругался матом, сказал, что "мы зажрались", что "война на носу", а мы живем "как кисейные барышни". На другой же день части были приведены в боевую готовность. Нам выдали "смертные медальоны" - медальоны, в которых были бумажки с нашими данными, включая группу крови. Все машины были приведены в боевую готовность. Мы покинули казармы и пару дней жили в полевых условиях ("как на войне"). Потом нас снова вернули в казармы, танки и бронемашины законсервировали.
VII. ВОИНА
НАЧАЛО ВОЙНЫ
Войны ждали с минуты на минуту. А когда она началась на самом деле, она разразилась как гром среди ясного неба. Я не могу описать первые дни войны отчетливо и систематично. Да в этом и нет никакой необходимости: общеизвестно, что это была неслыханная паника и хаос. Это была паника не от животного страха, но паника от хаоса и бессмысленности происходившего. Вдруг обнаружилось, что вся система организации больших масс людей, казавшаяся строгой и послушной, является на самом деле фиктивной и не поддающейся управлению. Это была паника самого худшего сорта - паника развала системы, казавшейся надежной. Впавших в панику от страха людей можно было остановить. А тут люди, не знавшие страха, оказались в состоянии полной растерянности. Люди вдруг потеряли какую-то социальную ориентацию в огромной хаотичной массе людей и событий. Ощущение было такое, будто какой-то страшный ураган обрушился на землю, поломал и перепутал все, лишил людей пространственно-временных координат. Куда-то вдруг исчезла вся гигантская командная машина, и командовать людьми стало некому. В этом паническом хаосе мы были предоставлены самим себе.
Отдельные эпизоды этих дней описаны в моих книгах, и я не буду здесь повторяться. Ограничусь краткими замечаниями.
Наше бегство перешло в отступление с боями - приходилось как-то обороняться. Ожидалась атака немецких автоматчиков. Наше сильно поредевшее подразделение было не способно долго обороняться. Было приказано отступать, оставив прикрытие. Несколько человек вызвались добровольцами, я в их числе. Мы, оставшиеся прикрывать отступление части, приготовились сражаться до последнего патрона и достойно умереть. Это не слова, а вполне искреннее решение. Я заметил, что активная готовность умереть снижает страх смерти и даже совсем заглушает его. Мне не было страшно умереть в бою. Страшно было умереть, будучи совершенно беззащитным и не имея возможности наносить удар врагу. Это мое состояние идти навстречу смерти было лишь продолжением и развитием моего детского стремления преодолевать страх, идя навстречу источнику страха. Скоро показались немцы. Мы начали стрелять. И они открыли стрельбу.
Мне не раз приходилось читать описания психологического состояния людей в первых боях. Может быть, в этих описаниях была доля истины. Но со мной, так же как и с моими товарищами, ничего подобного не было. Мы начали стрелять так, как будто были старыми солдатами, привыкшими убивать. И дело было не только в том, что враги были на расстоянии, мы не видели их лиц и не знали, в кого именно мы попадали. Потом мне пришлось участвовать в уничтожении группы немецких автоматчиков, оторвавшихся от своей части. Два немца залегли около будки высокого напряжения. Я и еще один солдат встали во весь рост и пошли на них с винтовками. Они не стреляли, может быть, растерялись от неожиданности. Мы прикололи их штыками. Произошло это так быстро, что мы просто не имели времени испытать все те психологические переживания, которые так подробно и вроде бы со знанием дела описывали писатели.
В этой операции я был ранен в плечо. Ранение оказалось не опасным. Но плечо распухло. Я долго не мог двигать рукой. Ни о каком госпитале и думать было нечего. Некому было даже перевязать плечо. Я был горд тем, что был по-настоящему ранен. И был рад, что уцелел.
Еще до войны я прошел медицинскую комиссию и был признан годным к службе в авиации. Тогда говорили, что по личному приказу Сталина всех молодых людей, годных по здоровью и имеющих среднее образование, послать из частей в авиационные школы. Я служить в авиации не хотел и не воспринял решение комиссии всерьез. А с началом войны я вообще забыл об этом. И вот в самый, казалось бы, критический момент начала войны меня вызвали в штаб полка, выдали мне на руки мои документы, посадили на грузовую машину, где уже сидело несколько таких же счастливчиков, и куда-то повезли. Оказалось, нас направляли в авиационную школу. Явление это заслуживает внимания: в такой критический момент высшее командование думало о том, чтобы начать готовить летчиков для еще не созданной новой авиации, соответствующей требованиям времени. Значит, еще тогда думали о том, что война будет длиться долго. Должен заметить, что даже в самые трудные периоды войны ни у меня, ни у тех, кто окружал меня, не было сомнения в будущей победе. Воспитание, какое мы получили в школе тридцатых годов, давало знать о себе, несмотря ни на что.