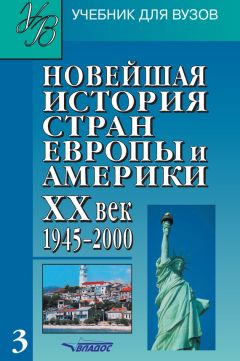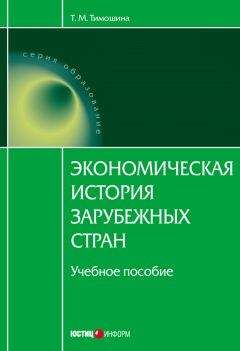Александр Бенуа - Жизнь художника (Воспоминания, Том 1)
Кроме Маши и Инны, семья дяди Сезара состояла из старшей дочери Софьи и единственного сына Евгения. Если до сих пор я не говорил о них, то это не потому, что они не играли никаких ролей в доме, а потому, что они для меня представлялись уже принадлежащими к разряду "больших" и "старших". Впрочем, кузен Женя был - само добродушие и благодушие; он был закадычным другом моих братьев Люли и Коли, разделял их спортивные увлечения, ко мне же относился, если не свысока, то с несомненным безразличием - ведь между нами была разница в десять или двенадцать лет. Ближе я с ним познакомился и лучше оценил его, когда из каких-то соображений меня на время поместили в его прелестную комнату, всю увешанную портретами знаменитых скаковых лошадей, и тогда на сон грядущий он стал меня удостаивать небольшими беседами. Мне нравилось при этом полное отсутствие в Жене покровительственного тона и его обращение со мной, мальчуганом одиннадцати лет, как с равным.
Напротив, главный недостаток кузины Сони в моих глазах заключался как раз в том, что она неизменно и недвусмысленно выражала свое какое-то превосходство над младшим поколением и что она даже позволяла себе делать нам замечания в довольно обидном тоне. Теперь, когда я смотрю на всё это издалека, познав по долголетнему опыту жизнь со всеми ее требованиями, - мне кажется, что Соня справлялась со своей ролью сестры, заменяющей мать при сиротах, с тактом, но в те дни я был мальчиком своевольным, до крайности избалованным и самолюбивым, и естественно должен был приходить в столкновение с теми, кому надлежало следить за порядком и ладом в доме. Хорошо воспитанная Соня никогда не выходила из себя, не вспыхивала раздражением и была очень ровна и очень спокойна. Но от нее исходили запреты и она же с явной укоризной молчала, когда не могла не сердиться на мои проделки. Мне не нравился и вообще ее гордый вид, прищуренный взгляд ее близоруких глаз, ее манера держаться, выражавшая, как мне казалось, большое самодовольство. Особенно меня злило, когда она в элегантной амазонке и с цилиндром на голове галопировала на своем гнедом коне. Мне не нравился ее певучий, несколько томный, в нос, говор, больше же всего меня огорчали подарки, которые делала Соня на елку, но об этом будет рассказано в своем месте.
Жизненная судьба Софьи Цезаровны была в некоторых отношениях более счастлива, нежели судьба ее сестер. Она пользовалась отличным здоровьем и дожила до глубокой старости. Вышла Соня замуж согласно свободному выбору за известного в те времена врача, Владимира Гавриловича Дехтерева, и ей удалось образовать в своем доме род литературно-художественного салона, в котором бывали всякие знаменитости, что несомненно льстило ее самолюбию. В ее нарядной гостиной, увешанной венецианскими зеркалами из палаццо дедушки и теми же портретами Беллоли, которые когда-то мне очень нравились в доме ее отца, я, например, слышал пение знаменитой Ферни Джермано и чтение стихов маститого Я. П. Полонского. Бок о бок с поэтами и художниками восседали на прелестных стульях, крытых белым шелком, знаменитости русской адвокатуры и разные политические деятели либерального толка. Дехтеревские дети, три мальчика, росли, как все "Кавосята", прехорошенькими, и Софья Цезаровна ревностно следила за их образованием. Словом, со стороны глядя, всё обстояло благополучно - во всяком случае до того момента, когда она овдовела. Но была ли Соня и в самый свой цветущий период по-настоящему счастливой, познала ли она истинную радость жизни, в этом я сомневаюсь.
Трудно, например, себе представить, чтобы она, такая разборчивая и брезгливая, могла страстно и нежно любить этого громоздкого, неотесанного бородача, каким был ее супруг, напоминавший видом Вагнеровских первобытных героев, в роде Фафнера или Гундинга. Во всяком случае, вся наша родня относилась к этому "Гаврилычу" с иронией и также относились к нему мои друзья Дима Философов и Сережа Дягилев. У Философова, впрочем, были на то особые причины. В студенческие годы Дехтерев был одним из деятельных ревнителей освободительного движения и даже "ходил в народ", сея среди мужиков семена того, что он и с ним несметные русские люди считали за самое доброе и святое. Он был в этой своей роли до того характерен, что удостоился даже быть изображенным в карикатурном виде в романе "Новь". Тургенев использовал при этом хвастливые признания самого Дехтерева, содержавшиеся в одном из его писем к Анне Павловне Философовой, пересланном этой Музой русского либерализма великому писателю в порыве ее восторженного увлечения Дехтеревым. Дима же Философов никаких увлечений матери не разделял и, напротив, питал к таким дилетантам революции непреодолимое отвращение.
Последние мои встречи с кузиной Соней происходили уже в эмигрантской обстановке в Париже. От всей прежней роскоши не оставалось и воспоминания. Правда, ее старший сын имел обеспеченное положение в Лондоне, куда он и звал свою мать, но она предпочитала делить нужду со своим младшим сыном, безнадежным неудачником, в Париже, где этот несчастный и покончил с собой в 1938 году. После этого Софье Цезаровне не имело смысла дольше оставаться во Франции, она перебралась в Лондон и вскоре там умерла.
Не могу пройти молчанием еще тех лиц, которые, каждое по-своему, придавали известную характерность дому дяди Сезара. То была экономка Талябина, англичанка миссис Кэв, кучер Ермолай и лакей Тимофей. Мне уже потому хочется сказать о каждом из них несколько слов, что именно к каждому из них я имел особенно близкое касательство.
Самой замечательной фигурой из них была, бесспорно, не раз уже помянутая Талябина, прозванная так моими братьями, когда они были детьми, но настоящее имя которой было Наталья Любимовна Гальнбек. Когда-то она состояла ключницей в нашем доме, но затем мама "уступила" ее своему брату, когда тот, внезапно овдовев, совершенно растерялся - дом остался без хозяйки, дети без материнского присмотра. Талябина же представляла собой поистине образец надежности во всех смыслах. С раннего детства я помню ее крошечной старушкой, почти карлицей, со смятым, как печеное яблоко, розовым личиком и настолько сутулой, что она могла сойти за горбунью. На голове, почти лысой, она носила старомодную черную наколку, одета же она была всегда необычайно опрятно, но незатейливый фасон ее платьев восходил по крайней мере к 1840-м годам. Зимний ее туалет состоял из короткой шелковой кофточки на пуговицах и шелковой юбки без шлейфа, и того же покроя была ее летняя одежда, но материал был ситцевый. Несмотря на преклонные годы (Талябине было тогда уже за семьдесят) и на внешнюю хрупкость, Талябина никогда не болела и отличалась баснословной выносливостью и энергией.
Без отдыха рыскала она своей бесшумной, семенящей походкой в мягких башмаках из комнаты в комнату, вверх и вниз по лестницам, обнаруживая свой дар вездесущности, особенно на даче, где она как-то одновременно следила и за приготовлением еды на кухне, находившейся в подвале, и давала уроки музыки и немецкого языка, успевая посетить прачешную, сад и огород. При этом Талябина вставала с зарей, а ложилась позже всех, когда последний гость отбудет, а девочки подымутся к себе в верхние комнаты. И всё это она производила безропотно, без охов и вздохов, почти весело. Говорила она шепотом, что, однако, вовсе не подрывало ее авторитета. Эту маленькую старушонку все не только уважали, но чуточку побаивались - не исключая, пожалуй, даже самого строгого и важного дяди Сезара.
Говорила эта природная немка почти всегда по-русски, но на таком странном жаргоне, что понимали ее только те, кто уже имел в этом опыт. Кроме занятий по хозяйству, присмотра за тем, чтобы весь порученный ей, довольно сложный, механизм работал без перебоев и задержек, Талябина успевала еще давать нам уроки немецкого языка и игры на фортепиано, и как раз к самым сладко-меланхолическим воспоминаниям о даче дяди Сезара принадлежат часы, которые я переживал за инструментом под перспективой "Каналетто", рядышком с неумолимо педантичной и изумительно терпеливой Талябиной. С механической точностью отсчитывала она шепотком такты и костлявой своей ручкой изредка стучала по крышке. О, эти томные музыкальные заседания в жару, в дурмане цветочных запахов, в окружении жужжащих мух и пчел. Как я ненавидел эти уроки музыки тогда; моментами я принимался ненавидеть и свою неумолимую мучительницу. И как мне теперь подчас остро хочется очутиться на той же скамеечке, на которой надлежало (с подкладыванием двух томов "Иллюстрированных лондонских новостей") сидеть за роялем. Увидать бы снова наяву освещенный зеленым отблеском деревьев зал, почувствовать и тот легкий, чуть кисленький, запах, который шел от милой чистенькой и усердной старушки, от незабвенной Талябины. Если я ее и мучил порядком, то всё же из бесчисленных учительниц своих, я именно ее больше других почитал...