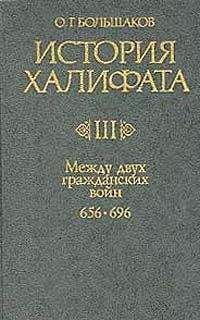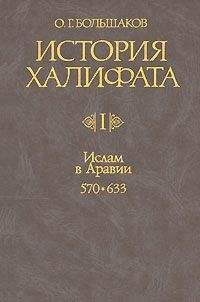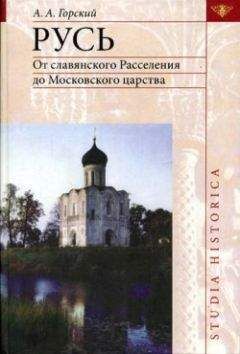Александр Бенуа - История русской живописи в XIX веке
И вот в последние годы жизни Федотова и эта последняя капля оставшейся в нем ядовитости стала мучить и раздражать его мягкое сердце. Ему казалось, что и эта насмешка слишком обидна, что он и на нее не имеет права; ему не хотелось дольше оставаться даже и таким «деликатным сатириком». Перед Федотовым стал носиться другой идеал. Он пожелал сделаться простым повествователем жизни, ее прелестей и горя. Федотов, наверно, сумел бы найти в себе достаточно поэтической, чарующей силы, чтобы все озарить мягким и примирительным светом, чтоб и горе, и радость изобразить одинаково приятными в художественном смысле, раскрыть в них какую-то общую им всем гармонию — «красоту жизни». Ужасно, что смерть не позволила ему привести свои замыслы в исполнение; таким образом, все творчество Федотова, в сущности, осталось недоговоренным и случайным; какими-то первыми пробами пера, далеко не выражающими личности художника.
Его «Вдовушка», много раз повторенная, характерна для этих новых, примирительных намерений, начавших последние два-три года все определеннее и определеннее сказываться в нем, несмотря на решительный успех его шутливых и назидательных картин. Несчастная, совсем молодая женщина только что понесла ужасную утрату: умер любимый муж, красавец гусар, умер, ушел навсегда и оставил ее одну, беззащитную, неопытную, беременную, без средств — на произвол судьбы. В серой комнате, в холодном полумраке сумерек стоит она одна, с поникшей головой, надломленная горем, опершись на комод, из которого все вещи уже вытащены хищными кредиторами. В безысходной тоске переводит она свои заплаканные глаза с одного предмета на другой и то уставляется на портрет горячо любимого погибшего друга, то на вещи, на весь их милый скарб, сложенный теперь в беспорядке, приготовленный уже к тому, чтобы также уйти из дому на рынок, разойтись по рукам чужих, неизвестных, равнодушных людей. Этот скарб, этот кусочек nature morte у кровати и на комоде, но в особенности мрачные, сизые, постепенно сгущающиеся сумерки переданы превосходно, как это можно встретить только у голландцев. Того росчерка, характерного для XIX века, той неуместной сладости или приторности, считавшихся в его время обязательными при подобных сюжетах (если не считать несколько брюлловского типа самой героини), нет и следа.
П. А. Федотов. Вдовушка. 1851 — 1852. ГТГ.
П. А. Федотов. «Анкор, еще анкор!» Около 1851. ГТГ.
Однако еще замечательнее среди произведений Федотова его последняя вещь, в которой выразилось вполне, какой чудный художник, какой чудный поэт жил в нем. Над этой картиной он долго бился. Ему все казалось, что труднейшая колористическая задача, которую он себе поставил, недостаточно гармонично разрешена. Незадолго до своей роковой болезни он даже видел сон, будто к нему явился Брюллов и дал ему несколько дельных советов, которых, однако, он не мог вспомнить наяву. Но напрасно Федотов вспоминал слова автора «Сна монашенки». То, что было сделано им, было бесконечно выше всех эффектных, крикливых колористических чудес Карла Павловича. Скромная картина эта, изображающая «офицера, квартирующего в деревне», — одно из самых поэтических и необычных произведений в искусстве XIX века.
В тесной и низкой избенке, темной-претемной, лишь тускло освещенной догорающим огарком, растянулся на полатях несчастный молодой офицерик, убийственно скучающий от принужденного безделья на зимней стоянке в какой-то «проклятой дыре». Единственное его развлечение — прыжки пуделя через протягиваемую палочку. В противоположном углу комнаты в совершенной мгле стоит громоздкий и мрачный денщик, покуривающий трубку и со смаком отплевывающийся в сторону. В глубине сквозь жалкое оконце видна лунная ночь, клочок неба и сонная деревенская улица, занесенная снегом. Все тихо и темно, тесно и сумрачно до отчаяния. «Анкор, — кричит офицерик своей собаке, — еще анкор!» — и неугомонное возбужденное и веселое существо скачет, скачет и скачет, без умолку, неустанно, среди темноты, на утеху своему барину. Молчаливый, мрачный и грубый солдат назойливо торчит все время перед глазами и целыми часами продолжает курить и отплевываться; малюсенькое помещение все более и более заволакивается дымом, в окошко глядит все тот же тоскливый пейзаж, та же пустая улица, те же избы, тот же снег и то же мертвое небо, и вокруг все так же тихо, скучно и темно… Но почему-то и сладко (в этом особенная пикантность картины), как бывает сладко в мутных сновидениях горячки, когда непрестанно все тонет, вянет и умирает и лишь что-то вздорное, ненужное и мелкое, как этот пудель, суетится, толкается, шумит, мучительно мешая забыть о жизни.
Деятельность Федотова, всего лишь в последние 5 — 6 лет ставшего настоящим художником, так же как и деятельность Иванова, прекратилась на полуслове. Истерзанный уже долгими годами лишений (он жил в крошечной и холодной квартире, питался плохо и постоянно отказывался от того, что могло бы хоть отчасти повредить его художественной работе[77]), несмотря на успех, он принужден был бороться с крайней нуждой, вследствие того, что почти весь его заработок шел на разоренную вконец семью, оставшуюся без крова и хлеба. Усиленные занятия последних лет, вечная забота о существовании, об обеспечении ближних, постоянные лишения, быть может, и любовь к одной девушке, на которой он, художник, вдобавок стареющий, не решался жениться, — все это, вместе взятое, разбило его в высшей степени впечатлительную и нервную натуру, и летом 1852 года он внезапно сошел с ума. Грустно подумать, что никого не нашлось, кому русское искусство было бы настолько дорого, чтобы спасти лучшего представителя его, обеспечить существование этого художника и существование близких ему людей. Проболев несколько месяцев в каком-то подвале частного заведения для умалишенных, Федотов скончался 17 ноября 1852 года, всеми оставленный, на руках верного своего денщика Коршунова, вернувшись незадолго до смерти к полной памяти. Говорят, что толпа шла за его гробом, — жаль, что эта толпа вовремя не пришла ему на помощь…
XIX.
Перелом 50-х годов. Эстетика 50-х годов
Все дальнейшее русское искусство, если оставить в стороне некоторое возрождение в 70-х годах академизма и попыток Ге и Васнецова в религиозной живописи, шло, почти вплоть до нашего времени, по стопам Федотова. Иначе и быть не могло. Если уже 30-е и 40-е годы могли породить такого художника — рассказчика и проповедника, — каким был автор «Кавалера», то 50, 60 и 70-е годы должны были породить уже целую плеяду однородных художников.
Со вступлением на престол императора Александра II глухое брожение, чувствовавшееся под всеобщим выглаженным и вычищенным мундиром уже в последние годы царствования Николая I, вдруг разразилось неистовой лихорадкой. Полные светлых надежд, воспрянули молодые силы, задыхавшиеся последние 7—8 лет, как только они почуяли приток свежего воздуха и как только разнеслась весть, что прежний, для них в особенности убийственный, строй будет заменен новым, стоящим ближе к уровню европейской цивилизации. Наиболее пылкие и стремительные люди верили тогда в то, что осуществимы и у нас те теории, которые, зародившись на Западе, привели Францию снова к республике (на империю Наполеона III первое время все смотрели как на мимолетное явление), Германию и другие монархические государства — к конституции. Они думали, что чисто западная программа даст России полное счастье и введет ее в общую жизнь народов. Другие если и не желали революции на западный лад, если и считали государственный строй России и всю ее культуру самыми для нее подходящими, то все же находили, что настало время починки и обновления. Они мечтали о том, чтобы оживить религию, возвысить нравственный авторитет монархической власти, дать ход всем коренным русским стремлениям, особенно чисто духовного характера.
Много сразу проявилось тогда наивного и странного, вероятного уже из-за той внезапности, с которой произошла перемена в нашей внутренней политике. Оба лагеря, западников и славянофилов, когда-то соединенные вместе, теперь окончательно разошлись и впали в узкий фанатизм.
Революционеры питались лишь западными идеями и мало знакомились с истинными нуждами народа. Славянофилы ударились в другую крайность: в фанатическом ослеплении отворачивались от всего нерусского и заставляли себя искусственными заборами от Европы. Однако, по самому существу своему, все это движение было великим и высоким, полным жажды света и воздуха, полным идеальных стремлений к несбыточным, но прекрасным утопиям.
Казалось, все теперь призваны к участию в общем деле. Кто по-прежнему благодушествовал и находил, что все обстоит как нельзя лучше, тот был «ретроградом», того клеймили позорной в то время кличкой консерватора, от того отворачивались «порядочные люди». Наступила странная эпоха, свободомыслящая в принципе, но деспотическая на деле. Во имя свободного развития человечества отдельная личность была раздавлена, и, разумеется, искусству, в котором личное начало играет главную роль, пришлось оттого очень плохо.