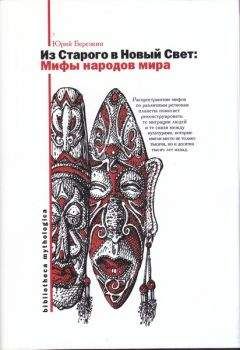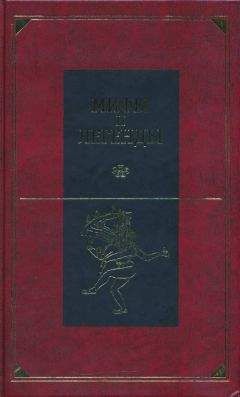Игорь Дьяконов - Архаические мифы Востока и Запада
Когда же мы говорим о плодородии и связанных с ним мифах, то это плодородие не следует понимать ограничительно. Мифы семантического ряда «священный брак нисхождение в Преисподнюю — осирический миф» полостью связаны с сельскохозяйственным производством и поэтому не старше раннего неолита — мезолита. Но вполне вероятно, что круговорот природы и ранее этого метонимически-ассоциативно связывался с женскими божествами — на стадии собирательства (что было женским занятием) и охоты. Размножение диких животных и победа над ними, по-видимому, давали повод для создания главнейших охотничьих культов и ритуалов, однако в рассматриваемых нами обществах от охотничьих верований остались только следы. Для оседлых племен между тем хозяйственное значение имела и плодовитость домашних животных: и она тоже входит в один семантический ряд с человеческой сексуальной деятельностью, и еще в гораздо большей мере, чем рождение злаков и плодов. По-видимому, священный брак Сина и Нингали в шумеро-вавилонском Уре, происходивший в масках быка и коровы,[270] имел своей целью обеспечение в первую очередь скотоводства;[271] не случайно так распространены были варианты стихотворного текста о соединении бога Сина в виде быка вовсе не с Нингалью, а просто с юной телицей;[272] напомним также, что и Думузи-Таммуз, герой наиболее популярного из мифов о священном браке и соответственного ритуала, — пастуший бог.
Затем — плодовитость людей. Тут, по существу, проблема была не столь острой, потому что жена, как правило, рожала непрерывно, и стимулировать надо было легкость родов более, чем само явление родов (хотя, конечно, и его).
Но еще важнее было не просто произвести на свет ребенка, но и сохранить его (детская смертность, по приблизительным подсчетам, должна была доходить до 70–80 %). Ежели же имело место бесплодие, то его principium volens также представлялся как демоническая сила и от него, как и от демонов болезней, требовалась магическая (т. е. построенная по метонимически-ассоциативным рядам) защита. Мифо-эпических текстов, которые осмысляли бы сам акт деторождения, мы в исследуемом регионе как будто не знаем, но есть магические заклинали для рожениц[273] и есть образы богинь — родовспомогательниц и хранительниц. (Они не принадлежат к главам божествам. Ср. в Скандинавии родовспомогательницу Оддрун — всего лишь наполовину богиню.[274]) В любом случае бесплодие было уже, видимо, в основном вне сферы влияния «богинь любви», т. е. дев-воительниц типа Инаны-Иштар-Астарты, Шавушки, Фрейи, даже Афродиты, и отчасти было делом мужчин и «мужской» магии хорошо засвидетельствованной в мифологии серией специальных шумерских заклинаний ša(g)-zi(g)-ga.[275] Из Индии известно обращение же для избавления от бесплодия к фаллическим божествам. Думаю при этом, что мы не ошибемся, если сочтем, что обряд священного брака тоже имел прямое отношение и к плодовитости мирских браков.
Мифологической помощью в сохранении и продолжении рода были жертвы предкам (аккадск. kispum),[276] приносившиеся, вероятно, всякий раз, когда хозяин садился за трапезу, хотя были и специальные дни и даже месяцы для обрядов поминовения и кормления предков.[277] Главной угрозой продолжению рода были детские болезни, которые, по воззрению вавилонян, приносили демоны, насылаемые из Преисподней богиней-девой Эрешкигалью, и особенно демоница Ламашту[278] с львиной мордой.
Наконец, смерть. Она настигает человека непредвидимо[279] и поэтому, как уже говорилось, должна иметь свой principium volens. Отсюда та или иная персонификация смерти. Нередко она персонифицируется как бог или демон (шум. Nam-tar Отрезающий судьбу), но иной раз это дева-воительница, как Артемида с ее «неслышной стрелой», как скандинавские валькирии (впрочем, приносящие смерть только в бою). Убить человека не в бою было у скандинавов «ударить (его) в Хель» (ljósta í Hel). Если речь идет о ненасильственной смерти — человек просто «делал выдох» (andadhisk у скандинавов) или «истекал его срок» (adnnu ētiq у аккадцев). У скандинавов, греков и римлян нить индивидуальной судьбы прядут и отрезают богини судеб (норны, парки). О смерти прямиком говорить не полагалось — а следовательно, у нас мало сведений об архаических представлениях в этой области, хотя научная литература довольно обширна.
Principium volens любой смерти была судьба, или «доля», либо рождающаяся вместе с человеком (и плацентой), либо имманентно существующая где-то (в руках у богов или даже управляющая самими богами). Однако о судьбе в мифологии можно было бы написать отдельную книгу, мы же ограничимся указанием на обязательное наличие principium volens, управляющего как наступлением жизни, так и наступлением смерти.[280]
Момент смерти, как уже упоминалось, был переходом в «инобытие», к пребыванию в другом из миров. Мифологическое, эмоционально-ассоциативное мышление не было способно к созданию абстрактного понятия «небытие»: «ничто» в большинстве древних языков выражается как «не-вещь», а мы уже видели, как сложно обстоит дело с абстрактностью самого понятия «вещь» в архаичных языках.[281]
«Переход» совершает, конечно, не человек в его «земном» виде — непосредственное наблюдение показывало наглядно покидание тела живым началом и разрушение тела, поэтому потусторонняя жизнь должна была продолжаться каким-то другим индивидуальным началом. Это могли быть тот самый «дышок» (душа), который явственно покидал тело в момент смерти, или что-либо другое, например этнографически зафиксированная в мифологиях «душа плаценты», некое незримое существо, «следующее» всюду за человеком (fylgja скандинавов), просто тень, воспоминание, посещающее живых в сновидениях, и т. п. Особенно подробно учение о бестелесных ипостасях индивидуального человека было разработано в египетской мифологии.
Место обитания после смерти подобных душ — или, может быть, лучше сказать — «бестелесных тел» — мыслилось либо под землей, либо на западе, на закате Солнца. Наиболее наглядно передает архаическое представление о мире мертвых аккадский эпос, говоря о демоне Нам-таре:
«…он ко мне прикоснулся, превратил меня в птаху,
Крылья, как птичьи, надел мне на плечи:
Взглянул и увел меня в дом мрака…
В дом, откуда вошедший никогда не выходит,
В путь, по которому не выйти обратно,
Где их пища — прах и еда их — глина.
А одеты как птицы — одеждою крыльев,
И света не видят, но во тьме обитают.
А засовы и двери покрыты пылью».[282]
См. также описание Преисподней в шумерской песни «Гильгамеш и дерево хулуппу».
Ср. позднее в «Одиссее»:
«… такова уж судьбина всех мертвых, расставшихся с жизнью:
Крепкие жилы уже не связуют ни мышц, ни костей их;
Вдруг истребляет пронзительной силой огонь погребальный
Все, лишь горячая жизнь охладелые кости покинет.
Вовсе тогда, улетевши, как сон, их душа исчезает.
… . . . . . . . . . . . .
О Одиссей, утешение в смерти мне дать не надейся:
Лучше б хотел я, живой, как поденщик работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный.
Нежели здесь безвозвратно погибшими властвовать, мертвый».[283]
Единственным настоящим пропитанием мертвых могут быть только жертвы, приносимые потомками, иначе судьба мертвых — вечный голод.
Вариантом, конечно, было и представление о том свете как о полном дублете сего света, где продолжается такая же земная жизнь. Однако надежда на это была весьма слабой в силу того, что ей противоречило непосредственное наблюдение распада и уничтожения трупа, поэтому «бестелесное» существование в «том мире» неизбежно представлялось менее комфортабельным, чем здешнее телесное. Делались, однако, попытки вернуть мертвому его «живое» существование — в частности, в Египте, где, как упомянуто, создано было учение (в своем окончательном виде, без сомнения, пóзднее) о нескольких различных живых сущностях, населяющих тело; уход одной из них оставлял надежду путем ассоциативно-метонимического (магического) обряда сохранить другую или другие сущности — или периодически возвращать их в мумифицированное или просто изображенное тело. Обряд был сложен, и без недешевой помощи магических специалистов и египетский покойник был обречен на жалкое существование за гробом.
Хотя в целом Преисподняя обычно представляется местом уравнивания всех людей в общем безрадостном бытии, однако нередко делались попытки представить себе лучшую судьбу, по крайней мере для некоторых, «привилегированных» покойников. Мы только что упомянули египетские попытки сохранить хотя бы царям и вельможам такое загробное существование, которое аналогично земному.[284] Заметим, далее, что тьма подземного царства представлялась не вполне обязательной: ведь и Солнце должно каждую ночь передвигаться с запада на восток, а это можно сделать только через Преисподнюю — и вот привилегированные египетские покойники приглашаются в загробную ладью Солнца.[285] В других мифологиях в загробном царстве светит во всяком случае Луна, это «солнце мертвых». Шумерская эпическая песнь «Гильгамеш и дерево хулуппу» описывает разную судьбу мертвых, в зависимости от рода их смерти, состава семьи характера жертвоприношений; однако большинству песнь сулит только тьму, жажду и голод.[286] Покойник, переставший получать заупокойные жертвы, становится этемму (шум. [g]еdеm, аккадск. eṭemmu), бродящим по ночам и нападающим на людей. В Египте суд «по делам человека» пред богами Осирисом и/или Анубисом допускался, хотя оправдания на нем можно и должно было добиваться не с помощью прижизненных дел, а с помощью заклинаний. Из аккадизированного Элама дошел текст, упоминающий загробный суд с «прокурором» Ла-гáмаль («Не щадить!») и «адвокатом» Имше-кáраб («Услышал мольбу!»): судьями мертвых считались в Вавилонии Гильгамеш, в Греции — Минос, Эак и Радамант. Греческий загробный мир помимо безрадостного бытия теней сулил для избранных героев «Поля блаженных» (или «Острова блаженных», Элизиум). У скандинавов-привилегированными были воины, смело павшие в бою: валькирии выбирали их для пиров в усадьбе Одина Валхалле. Кроме того, скандинавы (как и индийцы) ждали нового мира после окончания нашего космического века и мирового катаклизма: тогда «Бальдр возвратится» и, по импликации, могут вернуться и другие мертвые или некоторые из них («дружина верная»).[287] Вообще же у индийцев была разработана сложная религиозно-философская система «кармы» — «действия» в мире живых, определяющего неизбежно долю каждого в его следующем бытии, — но это относится уже к вторичным мифологиям, а об архаических представлениях индийцев о смерти узнать что-либо трудно. В «Ригведе» мертвыми правит Яма, сын Вивасвата («Широкосияющего [Солнца]»); у Ямы есть сестра-близнец Ями;[288] у иранцев же Йима сын Вивахванта правил прежним золотым веком, при гибели которого спас людей в особой «крепости» (vara), подобной Ноеву ковчегу. Противоречия здесь нет: оба могут быть близнецами, правящими в двух разных мирах, или тот же Яма/Йима, который правил в золотой век, может в новой космической эре быть обреченным править миром мертвых: он «первый мертвый». Может быть, правление бывшего царя золотого века в мире мертвых сулило покойникам какую-либо лучшую участь?