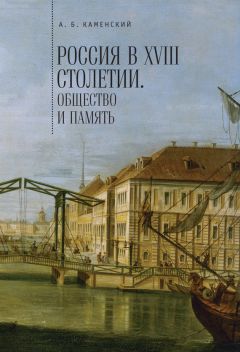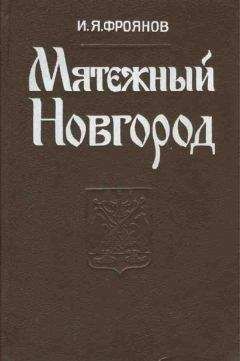Николай Копосов - Хватит убивать кошек!
Марксизм в России с самого начала своего распространения, но особенно после создания большевистской партии, воспринимался в первую очередь не с научной, а с политической точки зрения: как революционное учение. Это в еще большей мере, чем у Маркса и Энгельса, выдвигало на первый план идею классовой борьбы. Классовый анализ нашел в лице Ленина своего непревзойденного мастера, и то, что сам Ленин писал об истории (а писал он почти всегда об истории современной), было также посвящено в первую очередь истории классов и классовой борьбы.
Эти тенденции были развиты и закреплены по мере становления сталинского режима. Контроль тоталитарного государства над исторической наукой (как и культурой в целом) стал всеохватывающим только в 1930–1940-е гг., когда марксизм утвердился в качестве обязательной и не терпящей отклонений «методологии». Но дело было не только в том, что марксизм как научную теорию навязывали историкам: социально-психологический климат в СССР благоприятствовал воспроизведению его ментальных установок.
Главным фактором здесь было вполне наглядное для многих подтверждение правильности учения Маркса практикой. Известно массовое упоение успехами социалистического строительства в СССР в 1920–1930-е гг. (которое заметно превосходило самые успехи), уверенность в том, что в этой стране построено общество социальной справедливости. Осуществление «вековой мечты человечества» как бы доказывало единство, закономерность, прогрессивность, разумность, наконец, познаваемость и управляемость истории. Вместе с тем в обществе, только что совершившем кровавую революцию, продолжавшем истреблять «врагов народа» и ощущавшем себя в состоянии «осажденного города», в обществе, далеко внутренне не устроенном, где голод и нищета оставались повседневностью, сохранялась и почва для социальной ненависти. Классовая борьба, в ходе которой строилось новое общество, была социальным опытом, пережитым советскими людьми. Ее обнаруживали во всем — от водопровода до музыки. Марксизм и в самом деле был философией победившего пролетариата.
Советская историография подняла на щит материалистическое понимание истории, стремясь в социально-экономическом «базисе» найти исчерпывающее объяснение явлениям «идеологической и политической надстройки». Практически это реализовалось в быстро укоренившейся привычке «вскрывать» классовое содержание любого изучаемого явления, что рассматривалось как главная задача «подлинно научного» анализа. Этот штамп стал настолько привычным, что в нем часто не замечают логическую неувязку. Ведь если развитие общества определяется развитием производительных сил, то последовательный материалист при объяснении любого явления обязан каждый раз добираться до уровня развития производительных сил. Но этот шаг делался крайне редко. Диалектическая оговорка об относительной самостоятельности производственных отношений не спасает дела: если бы к проблеме относились серьезно, каждый раз следовало бы анализировать обе возможности (и объяснение «через производительные силы», и объяснение «через производственные отношения»). Но этого никогда не делалось. Ведь развитие производства, т. е. та сфера жизни, которая теоретически определяет развитие всех остальных сфер, наделе крайне мало интересовало историков-марксистов. И вполне понятно, почему: развитие производительных сил может быть прекрасным аргументом в пользу идеи о закономерном прогрессивном развитии общества — и даже обоснованием теории классов, — но только до тех пор, пока воспринимается как Deus ex machina. При первой же попытке серьезного изучения этого развития встает вопрос уже о его причинах, и в тот момент, когда обнаруживается его неравномерность, сторонники «материалистического монизма» рискуют вступить на бесконечный путь оговорок, и неизвестно, к чему приведет этот путь. Последовательный материализм оказывался для советских историков неприемлемым, поскольку ставил их в положение, в котором от них постоянно требовалась готовность «проверять собственные предпосылки» — процедура не для подданного тоталитарного режима. Гораздо удобнее было все объяснять классовыми противоречиями, имея в запасе как бы «лишний ход» — ссылку на неуклонное развитие производительных сил. Но поскольку вовсе без экономической истории обойтись было нельзя, то рассматривать ее полагалось с позиций классового анализа (любое другое изучение третировалось как «буржуазный позитивизм»). Психологически понятный ход, которому к тому же легко было найти вполне диалектическое обоснование в виде той же оговорки об «относительной самостоятельности» производственных отношений и об их «обратном влиянии» на производительные силы.
Однако по сути дела это нечто гораздо большее, чем оговорка. Это уже известный нам по Марксу и Энгельсу скачок, без которого марксизм обойтись не мог, поскольку иначе невозможно связать философский материализм с убеждением в том, что человек — творец истории. Либо история развивается по экономическим законам (но тогда на что направить революционный энтузиазм ее «подлинных творцов»?), либо она определяется исходом классовых битв (но тогда к чему все экономическое обоснование неизбежности коммунистического будущего?). Отказаться невозможно ни от экономического детерминизма (пусть в «конечном счете»), ни от классовой борьбы. Но какова сравнительная роль этих идей? Ни о каком равновесии здесь нет и речи. На стороне первой — логика «теоретического концепта», на стороне второй — мощная эмоциональная матрица. И у Маркса, и у его последователей почвой для примирения оказывается идея об определяющей роли народных масс в истории. Народ — и создатель материальных ценностей, и движущая сила революций, и победитель в освободительных войнах, и даже главный творец культуры (если не непосредственно, то через «подлинно народных» поэтов, музыкантов, художников и т. д.). Впрочем, все, что касается культуры, сравнительно мало интересовало историков-марксистов. Настоящий выбор мог быть только между народом трудящимся и народом сражающимся. И выбор был сделан без колебаний: народ сражающийся восторжествовал над народом трудящимся. Главной темой советской историографии стала история классовой борьбы.
4Наиболее полное воплощение эта черта советской историографии получила в рубрикации исторического материала, общепринятой уже в 1930-е гг.
Исторический процесс условно разделялся на три уровня — социально-экономический, социально-политический и идейно-политический. Эта схема «трех сфер» стала определять не только построение обобщающих трудов и университетских курсов, но и тематику научных исследований. Между тем она самым подбором и расположением материала допускала лишь единственный вид анализа — классовый. Она была подчинена задаче изложения всемирной истории как истории классовой борьбы. В сфере социально-экономической доказывалось бытие классов и обосновывалась неизбежность их борьбы — вплоть до соответствующего исхода. Классовая борьба составляла главное содержание социально-политической сферы и отражалась «в области идеологии» в сфере идейно-политической. Эта схема никогда не была обоснована теоретически, однако та поразительная последовательность, с которой она воспроизводилась на практике, свидетельствует о прочности соответствующих ей ментальных установок. Сами по себе ни экономика, ни демография, ни социальная сфера, ни государственные учреждения, ни тем более религия или культура не занимали существенного места в построениях советских историков и в лучшем случае «в порядке справки» освещались в обзорных работах. Главной задачей историка-марксиста, за изучение какой бы эпохи и страны он ни брался, считалось доказать, что там существовал определенный общественный строй (рабовладельческий, феодальный или капиталистический), соответствующие ему классы и классовые противоречия, а затем объяснить все основные события политической и культурной истории этого общества классовой борьбой[272]. Излюбленными темами советских историков стали анализ производственных отношений и положения угнетенных классов, политики государства по отношению к классам, революций, народных восстаний, социально-политических концепций, наконец, международных отношений, также рассматриваемых во многом сквозь призму классовой борьбы (и вместе с тем сквозь призму российского великодержавия)[273]. Именно в тот период, когда в европейской науке началось стремительное расширение «территории историка», в СССР имела место консервация традиционного круга тем, известных уже во времена «классиков марксизма», и даже сужение этого круга. Впрочем, необходимо подчеркнуть, что с точки зрения самих адептов сталинистской историографии марксистская философия истории выглядела иначе, поскольку скачка, о котором идет речь, они не осознавали[274].