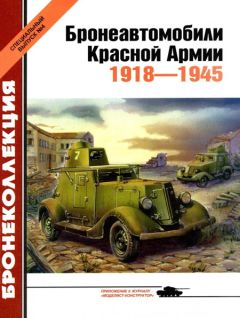Виктор Андриянов - Архипелаг OST. Судьба рабов «Третьего рейха» в их свидетельствах, письмах и документах
«И через пять месяцев после освобождения и победы у меня не было сил. Я не мог работать топором, держа его за рукоятку одной рукой, кирка тянула меня на себя вперед, я боялся высоты и вообще быстро задыхался.
Мы, сотни четыре таких же, как я, ребят, ожидали призыва в армию в советском рабочем батальоне. Не везти же нас из Германии домой, а потом из дому опять в Германию — так объяснили нам.
А вообще в нашей работе было много приятного. Приятно крошить молотом бетонные фундаменты под станками в цехе, где до сих пор валялись короткие стволики так и несобранных автоматов. Они гремели у нас под ногами, мы подбирали уже готовое оружие, удивлялись грубости и простоте обработки: шершавая зеленая краска на кожухе охлаждения, грубая проволока приклада, стволик не полирован, на нем нестертые следы токарного резца. Спешили немцы, гнали изо всех сил, не до красоты им было. В другом цехе свалены странные металлические конусы, говорят, это части «фау». «Фау-два». Сотни таких конусов ржавели тут. Никогда им уже не стать корпусом летающего снаряда».
Вот на этом заводе и отыскал Виталия Семина отец, солдат, дошедший до Берлина.
«Когда мы остались одни, я попытался рассказать отцу о том, что было со мной в Германии, но, как ни силился, что-то главное никак не мог передать ему. Больше всего мне хотелось, чтобы отец почувствовал, каким бывалым, все видевшим и все испытавшим мужчиной я стал. Я показывал ему шрам во всю тыльную сторону левой кисти — сам выжигал кислотой, чтобы не работать. Говорил:
— Теперь я, знаешь, какой выносливый?! Могу работать по двое суток без перерыва. В Лангенберге на вальцепрокатном была норма — сто сорок листов в смену. Каждый лист килограммов двадцать, его надо поднять на грудь пятнадцать раз да каждый раз пронести шагов по десять. Вот и помножь!
Тут с отцом сделалась судорожная икота. Когда он немного успокоился, я показал ему свою правую руку: до сих пор, когда умываюсь, проливаю воду из пригоршни — мастер железной палкой перебил мне предплечье, а кость неправильно срослась».
Это недолгое свидание отца с сыном — в ряду лучших страниц военной прозы. Рано повзрослевший паренек слушал отца и вспоминал то, что старался, но никак не мог передать ему о себе, о Германии.
«О том, как тяжко и страшно мне было гам, как свирепо меня избили в первом лагере и как били потом, как я ходил со сломанной рукой в гипсе, а под гипсом завелись вши, и я, не выдержав зуда, сломал гипс. Как лагерный придурок Иван говорил мне «по-доброму»: «Ты не жилец. Может, и дотянешь до конца войны, но все равно не жилец». Как я зимой и летом ходил в рваном пиджаке на голое тело, в рваных брюках и деревянных колодках. И еще вспоминалось мне, как я окончательно стал доходягой, который, разгибаясь, видит перед собой оранжевые круги, и как я учился, силился скрывать, что я доходяга, потому что это был единственный способ сохранить к себе уважение и, следовательно, надежду на жизнь».
А потом постучался начальник штаба, уступивший им свою комнатенку, и смущенно сказал:
— Черт его знает, начальство, понимаешь, не разрешает, чтобы твой отец на территории завода остался ночевать… — Он взглянул на часы. — Вы располагаете… Еще двадцать… — начальник штаба запнулся, — десять минут в вашем распоряжении.
Когда он вышел, сын спросил отца:
— Ты заберешь меня отсюда?
Вместе с Виталием Семиным эти слова повторяли тысячи и тысячи его сверстников, которых еще вчера называли «восточными рабочими». К первому августа 1945 года на сборных пунктах было зарегистрировано 2 380 737 человек. Около 555 тысяч из них было отправлено в СССР, 386 тысяч — зачислены в воинские части, арестовано — 5254 человека; 1 299 229 человек проходили проверку в лагерях и проверочно-фильтрационных пунктах. Из своих оккупационных зон передавали советских граждан союзники — до 60 тысяч человек в день. Комментируя эти цифры, Павел Полян восклицает: «Нет, Заукелю такие темпы и не снились!» Не стыдится ставить на одну доску тех, кто, как Виталий Семин, повторял отцу: «Ты заберешь меня отсюда?» Отсюда и домыслы, правда с оговоркой — недокументированные и малодостоверные — о том, что при репатриации «расстреливали не только отпетых «власовцев», но и ни на что не годных стариков».
К марту 1946 года, заключает издевательски Полян, «в закрома Родины было поставлено 5 352 963 советских гражданина». Извинились бы перед ними, доктор, за оскорбление.
Война закончилась не для всех
В семье маршала Чуйкова не любили вспоминать о послевоенном ЧП, которое едва не оставило его, в ту пору Главнокомандующего Группой советских войск в Германии, без маленького сына. А случилось вот что.
Из числа проверенных-профильтрованных репатрианток для квартиры главкома подобрали домработницу, старательную, работящую. Дома все блестело, видно, тетя Мотя в самом деле была хорошей хозяйкой. Только до поры до времени никто не знал, что в американском секторе Берлина у нее осталась дочь. Вроде заложницы. «Приведешь сына русского командующего, — сказали ее маме, — получишь обратно свою ненаглядную Оксану. Не приведешь — обеих сдадим русским. Им будет интересно кое-что спросить у вас…»
Тетя Мотя умела входить в доверие. Вскоре дома у Чуйковых на нее полагались как на свою, жалели — столько, мол, перенесла, несчастная! В хорошую погоду выводила малыша в скверик по соседству. Он доверчиво держался за ее руку. И сейчас, когда они подошли к дверям, ребята из войсковой охраны улыбнулись им, не обратив внимания на то, что на прогулку Матрена почему-то идет с узлом.
К счастью, за домом главкома наблюдала и контрразведка. Может, там уже узнали нечто о домработнице, может, обратили внимание на узел, неподходящий для прогулки. Словом, ее задержали. На первом же допросе дама во всем призналась. Хотела передать американцам сына Чуйкова в обмен на свою дочь. Зачем нужен был мальчонка американцам, она не знала, отвечала, всхлипывая и жалуясь на свою горькую долю на чужбине.
— Мерзавка! — не сдержался Чуйков, горячий человек, и влепил ей пощечину. Хмурую тетку увели.
Вчерашние союзники тщательно просвечивали контингент лагерей, расположенных в их оккупационных зонах. Впрочем, недавнее прошлое многих и многих из числа перемещенных лиц было ясно и так: бежали на запад вместе с отступающими немцами, спасались от расплаты.
Екатерине Поповой запомнилась группа русских, которая появилась в их лагере еще в апреле 1943-го. «Были эти полицаи, не нам чета — вид сытый, ухоженный, шевелюры длинные (нас-то чуть не налысо стригли). Их поставили надсмотрщиками, мастерами и бригадирами, и нам, ходячим покойникам, приходилось от них очень туго, подчас они хуже немцев были, так лютовали. Даже немецкие рабочие, глядя на них, иногда крутили пальцами у висков и приговаривали: «юде, юде…» Я поначалу удивлялась, причем тут «юде», ведь евреев здесь не было и быть не могло, а потом сообразила, что в данном случае «юде» — это «Иуда», предатель…». Один из таких мастеров довел до самоубийства Катину подружку, Анечку: «Вернулись мы в барак, видим — на спинке своей кровати, которая во втором ярусе была, висит… Аню успели вернуть к жизни, но нормальным человеком она уже не стала — временами заговаривалась, у нее как-то странно и страшновато бегали глаза».
Теперь борцы с Советами, как они сами себя называли, предлагали свои услуги новым хозяевам. Через год после победы союзники еще держали в лагерях свыше миллиона человек. Конечно, среди них было немало и запуганных, одурманенных людей, не знавших, куда податься. Были и лихие искатели приключений, готовые податься хоть на край света. И те, кому, как Ивану Михайлову, студенту Сталинского индустриального института, хотелось убежать от самого себя.
В их лагере о Советском Союзе либо говорили с бессильной злобой, либо помалкивали. Ворота для «перемещенных лиц» открывались только на Запад — во Францию, Канаду, США, Австралию… Михайлов выбрал Австралию.
Давно не бритые соседи по бараку рассуждали о выгодах далекого края: «Тепло, фруктов — завались…»
— Слышь, — говорил один, крутя яркий проспект, — говорят, зверь там один есть, коала называется, знай спит да ест. Вот бы нам, братцы, так.
Иван угрюмо слушал все эти разговоры, смешки; в его душе поднимались отзвуки того безвозвратно ушедшего времени, когда, рассматривая маленькую зубчатую картинку, невесть как попавшую в их поселок над Кальмиусом, он мечтал о далеких краях. Со щемящей жалостью вспомнил он вдруг мальчонку, который босиком по росистой траве, холодившей ноги, вышагивал с удочкой за отцом. Отец знал каждую травинку. Повадки птиц. «Смотри, — говорил сыну, — как жаворонки высоко кружат. Это они к Богу летят молиться. Значит, хлеб хорошо уродит». Звонкая птаха вдруг камнем падала к земле. «Зачем?» — испуганно спрашивал сынишка. — «Попьет росы с травинок», — отвечал отец. Иван Николаевич даже вздрогнул, словно вновь та давняя роса обдала холодком его ноги.