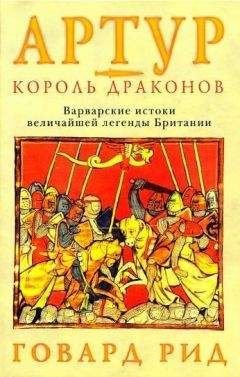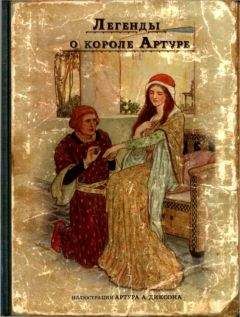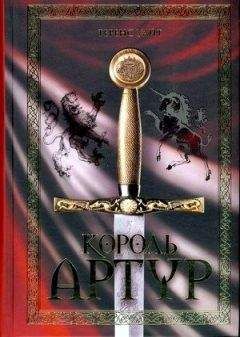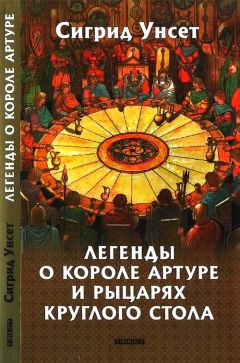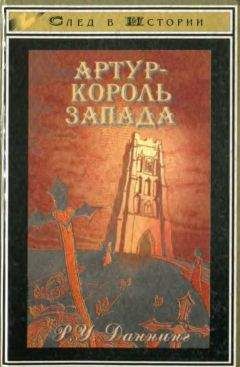Андрей Никитин - «Повесть временных лет» как исторический источник
Выяснив наиболее вероятные причины появления флота Олега под стенами Константинополя, которые разрешают вопрос о молчании греческих источников по поводу якобы имевшей место войны «руси» с греками в 907 г.[367], необходимо рассмотреть вопрос о времени прихода «руси» и мирных переговоров, поскольку собственно договор по своей дате отстоит от подхода Олега к Константинополю на четыре года, будучи подписан 2 сентября 911/6420 сентябрьского года, под которым описана и смерть Олега. Для этого следует еще раз вернуться к ст. 6415/907 г., чтобы разобраться в ее составе.
Первое, что бросается здесь в глаза, — дублирование просьбы греков о мире и, соответственно, два определения «дани», востребованной Олегом. В первом случае это соответствует предварительной договоренности по конфликту (возмещение убытка пострадавшим), а во втором, когда названы имена послов, — обсуждению самого договора и возмещению издержек по экспедиции. Вместе с тем, в рассказе, как я уже отметил, присутствует изложение статей, заимствованных из текста договора, с чем согласно большинство исследователей сюжета[368]. Реконструируя весь рассказ о походе 907 г. можно заключить, что он состоял первоначально из следующих фрагментов, содержащих: 1) состав армии, 2) заимствование из Амартола, 3) рассказ о движении судов на колесах к Золотому Рогу, 4) согласие греков на переговоры, 5) условия Олега (пеня), 6) переговорный процесс, 7) заключение мира послами Олега, 8) осмотр Константинополя, 9) анекдот с парусами и 10). возвращение Олега домой. При этом 8-й фрагмент, сообщавший об устроенной послам экскурсии по достопримечательностям Царьграда («Царь же Леонъ послы рускыя почстив дарами, золотом и наволоками, и фофудьями, и пристави къ нимъ мужи свои, показати имъ церковьную красоту, и полаты златыя, и в нихъ сущая б[ог]атьства: злато много, и паволокы, и каменье драгое, и страсти Господни, венець и гвоздье, и хламиду багряную, и мощи святыхъ, учаще я к вере своей и показующе имъ истинную веру; и тако отпусти я въ свою землю съ честью великою» [Ип., 28]), первоначально следовавший за описанием клятвы («и утвердиша миръ»), но перед анекдотом о парусах («И рече Олегъ: ишийте пре паволочити»), оказался оторван от рассказа и помещен сразу за текстом договора, в свою очередь отделенного от рассказа о походе «пустыми летами» (6416/908–6418/910) и сообщением о комете Галлея, оказавшейся под 911 г. вместо надлежащего ей 912 г.[369]
Почему так произошло?
Предыдущие исследователи, принимавшие без критики даты рассказов ПВЛ, вместе с тем принимали как реальный факт заключение «прелиминарного» договора в 907 г. и окончательного в 911 (912) г., что крайне сомнительно из-за столь большого временного разрыва. Эти сомнения подкрепляются тождеством имен послов на «предварительных» переговорах («Карл, Фарлоф, Велмуд, Рулав, Стемид») и в расширенном составе — в преамбуле договора 6420/912 г. («Карлы[370], Инегелдъ, Фарлоф, Веремудъ, Рулавъ, Гуды, Руалдъ, Карнъ, Фрелавъ, Рюаръ, Актеву, Труанъ, Лидульфостъ, Стемиръ»), что вместе с наблюдениями над статьями «договора 907 г.»[371] делает проблематичным их проведение в 907 г. и, наоборот, позволяет думать, что они непосредственно предшествовали подписанию договора 6420/912 г.
Такое предположение не противоречит относительной хронологии, содержащейся в тексте ПВЛ. Так, из ст. 6415/907 г. можно видеть, что послы Олега вели переговоры с «Леоном и Александром», т. е. с императором Львом VI и его братом. Лев VI умер 11 мая 912 г., но еще в 911 г. сделал своим соправителем Александра, а 9 июня 911 г. венчал на царство и своего пятилетнего сына, будущего Константина VII Порфирогенита. Соответственно, договор греков с «русами» 2 сентября 911 г. был заключен уже от лица трех соправителей — Льва, Александра и Константина. Всё это убеждает, что появление Олега под стенами византийской столицы произошло летом 911 г., поскольку отсутствие имени малолетнего Константина в предварительных переговорах («равно другаго свещания, бывшаго при техъ же царихъ, Лва и Александра») не является препятствием, чтобы признать возможность их проведения не только до венчания Константина, но и после, поскольку они были предварительными, и Константину, даже в качестве номинального соправителя, не было необходимости на них присутствовать.
Из этого следует, что приход Олега с флотом на Босфор должен был произойти не позднее конца июля или начала августа 911 г., вскоре после случившегося в то же лето конфликта в Константинополе. Соответственно, и результативность переговоров в значительной степени была обусловлена не столько талантами послов Олега, сколько оперативными действиями и последующим военным присутствием «руси», всё это время простоявшей под стенами византийской столицы и снявшей осаду лишь после подписания договора. Отсюда и предупредительность имперской администрации, и полномасштабная «культурная программа» для послов Олега с осмотром городских святынь, проведенная по указанию царствующего императора, каким являлся именно Лев VI, чья инициатива была совершенно правильно отмечена в рассказе. Такой осмотр предусматривался посольским церемониалом и должен был быть отмечен в описании церемонии ратификации договора, поскольку процесс переговоров, приемы посольств и выплата им денежного довольствия фиксировались чиновниками имперской канцелярии. Из этого можно заключить, что в повествование об Олеге, которым воспользовался «краевед», наряду с текстом договора были включены выдержки из отчета о приеме русских послов, подобно тем, которые содержит трактат Константина Порфирогенита «О церемониях».
Что же касается традиционной хронологии событий, «растянутой» при хронометрировании ПВЛ, можно полагать, что косвенной причиной такого построения послужил 8-й фрагмент, оказавшийся не на своем месте еще до внесения сплошной «сетки лет», поскольку следом за ним идет не описание триумфального возвращения Олега, а рассказ об обстоятельствах его смерти, что привело к ошибке в исчислении дат и последовательности событий.
Причины такого расчленения изначально единого текста в свое время объяснил А. Г. Кузьмин, обративший внимание на фразу в рассказе о смерти Олега «и пришедшю ему къ Киеву, и пребысть 4 лета, на 5 лето помяну конь свой, от него же бяху рекъли волъстви умрети Ольгови» [Ип., 29], которая должна была открывать весь этот эпизод. Однако теперь ей предшествовало объяснение о предсказании волхвов, которое случилось «преже». На этом основании историк предположил, что первоначально смерть Олега была указана по возвращении его из похода 907 г., и лишь потом, когда «позднейший летописец получил в руки подлинный текст договора», ему пришлось примирять текст сказания об Олеге с датой договора. «Летописец сохранил старый текст сказания, но вставкой подлинного договора оторвал окончание статьи от ее начала. Так получилось два договора и хронологическое расхождение в пять лет»[372].
На мой взгляд, ситуацию можно объяснить проще, поскольку в тексте прямо сказано, что предсказание Олегу смерти от коня было сделано волхвом «за несколько лет до похода на греков», после которого Олег прожил еще четыре с лишним года. Последнее обстоятельство отмечено и в тексте ПВЛ фразой, долженствующей следовать за описанием возвращения Олега в Киев: «и живяше Олегъ, миръ имея къ всемъ странамъ, княжа в Киеве» [Ип., 28]. Однако, вместо того, чтобы соединить поход и договор воедино, а затем отсчитать еще четыре лета на пятое, т. е. на начало сентябрьского 6424 года, что указывает на осень 915 г. как реальную (по легенде) дату смерти Олега[373], «хронометрист» повел отсчет назад, разорвал текст «пустыми годами», тем самым отнеся дату похода на 907 г. и отделив от него собственно текст договора. Удревнение (911 вместо 912 г.) получила и комета Галлея, поскольку, по мнению того же редактора, она должна была не сопутствовать, а предвещать смерть русского князя. Умер ли Олег действительно в 915 г., или нет, мы остаемся в неведении, поскольку собственно рассказ об Олеге заканчивается словами «и с того разболевся и умьре» [Ип., 29]; во всяком случае сейчас можно утверждать, что в 912 г. он не должен был умереть[374]. Всё последующее — о «великом плаче людей» и о его погребении на Щековице, где «есть же могила его и до сего дни» — также принадлежит «краеведу-киевлянину», тогда как краевед новгородский уже во второй половине XIII в. сообщал о могиле Олега в Ладоге и даже «за морем» [НПЛ, 109].
Но прежде чем перейти к легенде о смерти Олега и попытаться идентифицировать его личность, посмотрим, что в этом плане может дать заключенный им с греками договор.