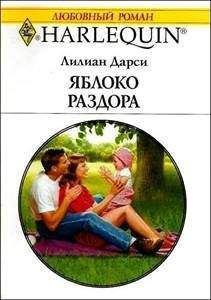Александр Мясников - Я лечил Сталина: из секретных архивов СССР
Летом 1947 года министр здравоохранения Митерев {16} пригласил меня к себе и предложил переехать в Москву в качестве директора Института терапии, что подтвердил и президент Н. Н. Аничков. Тогда я еще не дал согласия. Ленинград после войны представлялся нам особенно дорогим и красивым. Уехать из него казалось диким. К этому времени я стал больше, нежели раньше, интересоваться архитектурой города, его музеями. С легкой руки профессора Галкина я завел в квартире мебель красного дерева (павловскую и александровскую), старинные бронзовые люстры и стал систематически покупать в комиссионном магазине картины (в этом магазине, Невский, 102, сложился как бы клуб коллекционеров-картинщиков; придешь к Михаилу Дмитриевичу, покажет новые поступления; явятся другие «тронутые», в том числе профессор Б. Н. Окунев [143] , математик, грузный мужчина с широкой бородой – он собирал, главным образом, «леваков»; приходил и С. И. Вавилов [144] , президент Академии наук, покупавший второстепенных итальянцев – подешевле (это, конечно, общее желание – купить за бесценок шедевр) и т. п.
...Ленинград после войны представлялся нам особенно дорогим и красивым
С другой стороны, Москва – столица, Ленинград становится второстепенным заброшенным городом. Институт терапии – единственное учреждение, которое призвано развивать научную внутреннюю медицину в нашей стране. Одновременно сулят дать Госпитальную клинику I Московского медицинского института – клинику, которую создал Остроумов, занимал Д. Д. Плетнев и т. п. и которую я окончил.
К тому времени учреждения Военно-морского флота в связи с ликвидацией Военно-морского министерства влились в систему общего Министерства обороны, и наша Военно-медицинская академия стала в подчинение к генерал-полковнику Е. И. Смирнову [145] . Вскоре Е. И. Смирнов перешел из военно-санитарного управления в качестве министра здравоохранения СССР. Он возобновил разговоры о переходе моем в Москву, начатые Митиревым, обещал хорошую квартиру и избрание меня в действительные члены академии. «Будешь возглавлять нашу главную клиническую науку. Ваша морская академия – мелочь, да мы ее скоро и закроем. Войдешь в Президиум. Оставим в Ленинграде твоего старика – Ланга, а в Москве ты очень нужен, здесь с терапией – в смысле науки – плохо».
В январе 1948 года на сессии Академии медицинских наук, состоявшейся в Ленинграде, обсуждалась проблема гипертонии. Программным докладчиком выступил Г. Ф. Ланг. В блестящем докладе он представил оригинальную концепцию ее патогенеза. И в прежних своих работах он выдвигал идею о нервном происхождении эссенциальной гипертонии, но на этот раз он представил свою теорию особенно ярко. Базируясь на учении И. П. Павлова, он показал значение нарушений высшей нервной деятельности в развитии болезни. Его доклад был выдающимся событием в нашей науке. Сколько ни поддевали докладчика по отдельным аргументам (например, тезис о роли неотреагированных эмоций – «ваш бывший шеф, очевидно, воображает, что для профилактики гипертонии надо давать обидчику по физиономии») – это был ланговский триумф. Доклады патологоанатомов были дельными, но ординарными, а поспешные фантазии Анохина прозвучали примитивно. Сессия проходила в Таврическом дворце с большим общим подъемом.
На этой сессии я был избран в действительные члены и директором Института терапии. Итак, приходилась переезжать из Ленинграда в Москву.
В мае и июне того же года я, уже как директор Института терапии, приезжал на короткое время в Москву, хотя заканчивал чтение лекций и другие дела в ВММА; от функции главного терапевта флота меня уже освободили; от красивой военно-морской формы осталось пальто без погон – для дачи.
Я, наконец, вновь стал штатским и был рад расстаться с военным обличьем. Летом я писал новое издание «Болезни печени», и оно мне самому очень нравилось (это третье издание – зрелый плод в отличие от первых двух, в которых было слишком много отсебятины и самонадеянности).
...Я, наконец, вновь стал штатским и был рад расстаться с военным обличьем
Заболел Г. Ф. Ланг. Еще в феврале, срезу после своего доклада на сессии академии, он почувствовал боли в нижней части грудной клетки. Искали плеврит, может быть, диафрагмальный. Первые рентгенограммы ничего патологического со стороны желудка не устанавливали. Боли, однако, усиливались. Потом появились подозрительные признаки на снимках – рак кардиального отдела желудка. Консилиумы из Джанелидзе, Черноруцкого, Юдина и т. п. Больной вел себя спокойно, делал вид, что верит лживым объяснениям («язва», «плеврит» и т. п.). Иногда даже думалось, как это странно, что такай прекрасный клиницист и диагност дает себя столь легко обманывать, – уж не проявление ли это своеобразной, свойственной раковым больным, эйфории или какое-то выпадение в сознании рецептора на мысль о раке. Опухоль уже прощупывалась, потом стало нарушаться глотание, странно, что не предлагалось операции.
Г. Ф. Ланг сперва дома, потом – в своем кабинете в клинике, потом – под конец – опять дома. Он был приветлив с нами, врачами и учениками, но очень угнетен. К июлю силы стали иссякать. Насколько мне известно, он только однажды сказал: «У меня самый настоящий рак желудка», но сделал вид, что поверил отрицательному ответу. Это был человек с большой выдержкой и благородным достоинством и не хотел быть предметом жалости и утешений.
28 июля Г. Ф. Ланг умер. Похороны были, конечно, на подобающем уровне, но ведь похороны редко определяют значение деятельности умершего. На гражданской панихиде я сказал, что Ланг – классик нашей медицины, имя его олицетворяет выдающиеся периоды истории нашей науки, нашей специальности, как имя Боткина в прошлом.
Теперь, действительно, пора переезжать в Москву.
8. Жизнь в Москве
12 августа 1948 года я с женой и Олегом переехал в Москву. На платформе Ленинградского вокзала нас встречал профессор Иван Алексеевич Черногоров, замдиректора Института терапии, а также главврач.
Нас отвезли в номер люкс гостиницы «Москва», где мы жили около недели, до окончания ремонта квартиры. К тому времени пришло и имущество. Своя машина была кстати, так как институт тогда оной не имел. Мы объездили родных на дачах в Истре, Николиной горе и т. п.
Москва нам показалась жаркой, по временам проходили прямо тропические ливни; лавина воды катилась по улице Горького к Манежной площади; мужчины и женщины невозмутимо погружались в лужи, молодые женщины и дети разувались и шлепали босиком.
Квартира на Новослободской была получше ленинградской: высокие потолки, хорошая ванная и все такое, но всегда ведь недостает одной комнаты (было четыре, а надо… мало ли сколько, как нам кажется, надо, хотя, в конце концов, придется успокоиться на трехаршинной площади). Развесили в кабинете портреты Рокотова, Боровиковского и Крамского («С. П. Боткин»), антикварные люстры и разместили книги в шкафах, сделанных еще в Новосибирске. Было весело, начиналась новая жизнь. Право, хорошо переменить иногда условия жизни (имею в виду сейчас квартиру или город – можно себе представить, как чувствуют себя при перемене жены или мужа!).
Леник остался в Ленинграде, в ВММА, но вскоре написал мне, как бы хотелось ему быть свободным от казармы, жить дома, в культурных условиях и он-де только теперь понял, как был прав отец, когда возражал против поступления в военное училище (всю жизнь быть военным – бррр…). Вскоре удалось получить согласие начальства (генерала Завалишина) на перевод его в Москву, в I МОЛМИ.
...Москва нам показалась жаркой, по временам проходили прямо тропические ливни
В Ленинграде в квартире на Петропавловской осталась семья Левика, к тому времени еще не расколовшаяся, а на Лесном поселилась мать Инны Елена Калинишна и ее сестра Вера. В январе случилось несчастье: Елена Калинишна утром переходила Лесной проспект у дома, на положенном месте, – и ее сбил грузовик (пьяный шофер). Инну спешно вызвали. Диагноз перелома позвоночника почему-то не был поставлен. Калинишна умерла; человек она была очень заботливый, добрый, болевший душой о детях, о близких, всегда готовый помочь.
Весною 1949 года мы завели под Москвой дачу – близ деревни Красновидово, на Истре. Возня с постройкой дома, посадкой яблонь и цветов, приятное чувство собственности (родимые пятна капитализма) … Чудесные левитановские места. Тут были немцы, и остались следы стоянки их лазарета (ампулы, склянки), могильные холмики. Правда, через год все это совершенно изгладилось, только по другому берегу поэтической Истры остались кое-где заросшие рвы (окопы).
Участок был получен Президиумом Академии медицинских наук. Конечно, мы ученые, долой обезличку и уравниловку, как это провозгласил товарищ Сталин, но весь период устройства дачи было такое чувство, что мы делаем что-то такое политически, общественно неправильное. Советскому специалисту надо на период трудового отпуска брать путевку в санаторий и там жить в коллективных, государственных условиях, а не превращаться в частника. Недаром около нашего забора бабы, проходя мимо, озирались неприязненно: «У, советские буржуи, дачи понастроили, на шинах катаются!» Но постепенно это чувство пропало, и дача стала вторым домом (круглый год мы приезжаем сюда в субботу на воскресенье; маленький домик мы разобрали, и к небу вознесся особняк в стиле ампир с колоннами и круглыми сводами окон; есть куда пригласить гостей, в том числе и видных профессоров из-за границы; правда, в колхозной деревне можно и до сих пор видеть покосившиеся подслеповатые хибары, с окнами, частично подбитыми вместо стекол ржавым железом).