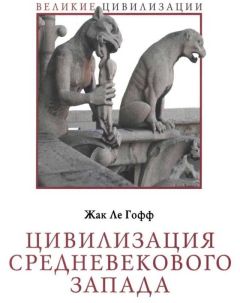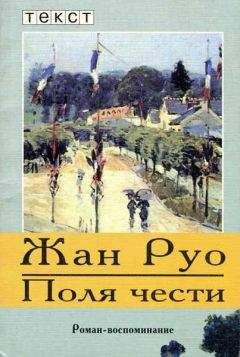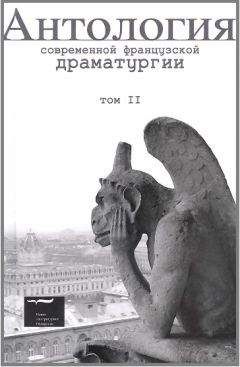Жак Ле Гофф - Цивилизация средневекового Запада
Подобное спасение было даровано и Вергилию, который благодаря четвертой эклоге считался пророком.
Но, как правило, персонажи античной истории были осуждены на забвение. Они разделили судьбу тех идолов, свергнув которых средневековое христианство вычеркнуло из своей памяти то «отклонение от истории», каким оно считало языческую древность. Оно проделало эту разрушительную работу с максимально возможной полнотой — с тем единственным ограничением, что техническое невежество и бедность вынуждали его использовать для своих нужд часть храмов, обреченных обычно на уничтожение. «Вандализм» средневекового христианства — независимо от того, был ли он направлен против античного язычества или средневековых ересей, книги и памятники которых беспощадно уничтожались, — представлял собой лишь одну из форм того исторического тоталитаризма, который побуждал вырывать с корнем все сорняки на поле истории.
Конечно, плеяда древних мудрецов, чьи имена стали символическими — Донат (или Приск), Цицерон, Аристотель, Пифагор, Птолемей, Евклид, к которым следует прибавить Боэция, — персонифицировали подчас на церковных порталах — например, в Шартре — семь свободных искусств. Но когда избежавшие этого остракизма Аристотель или Вергилий и проскальзывали в иконографию средневековых церквей, то в том смешном виде, в каком их изображали широко распространенные анекдоты. Верхом на Аристотеле сидела юная индианка Кампаспа, которой он пленился на старости лет, а Вергилий висел в клетке, где его выставила на всеобщее посмешище некая коварная римская дама, назначившая ему свидание. От всей этой уничтоженной античной истории осталась в конечном счете лишь одна символическая фигура — сивилла, предвестница Христа, которая придала сбившейся с дороги античности исторический смысл.
Христианская история приобрела свою классическую форму во второй половине XII в. под пером Петра Коместора («Пожирателя»), автора «Схоластической истории», содержавшей вольное изложение библейской истории.
Священная история начиналась с первичного события: акта творения. Ни одна из библейских книг не имела такого успеха и не сопровождалась таким количеством комментариев, как «Бытие», вернее, ее начало, которое трактовалось как шестидневная история, «Hexameron» («Шестиднев»). Под естественной историей понималось сотворение неба и земли, животных и растений; под человеческой — прежде всего история главных действующих лиц, ставших основой и символами средневекового гуманизма, Адама и Евы. История, наконец, определялась драматическим происшествием, из которого проистекало все остальное: искушением и первородным грехом.
Затем, однако, история как бы разделялась на две большие створки: сакральную и мирскую, причем в каждой господствовала одна главная тема. В сакральной истории такой доминантой было предвозвестие. Ветхий завет возвещал Новый в доходившем до абсурда параллелизме. Каждый эпизод и любой персонаж имели свои соответствия. Эта тема пробилась в готическую иконографию и расцвела на порталах кафедральных соборов, в фигурах ветхозаветных пророков и евангельских апостолов. В ней воплотилось основное свойство средневекового восприятия времени: через аналогию, как эхо. Поистине не существовало ничего такого, что не напоминало бы о чем-то или о ком-то уже существовавшем.
В мирской истории господствовала тема перехода власти. В каждую данную эпоху мир имеет один центр, живет по биению одного сердца. Путеводной нитью средневековой философии истории была основанная на орозианской интерпретации пророчества («сна») Даниила идея преемственности империй, передачи власти от вавилонян к мидянам и персам, затем к македонянам, а от них к грекам и римлянам. Преемственность эта осуществляется на двойном уровне: власти и цивилизации. Передача власти (translatio imperil) означает прежде всего передачу знания и культуры (translatio studii).
Разумеется, этот упрощенный тезис не только искажал историю. Он подчеркивал изоляцию западной христианской цивилизации, отбрасывая современные ей византийскую, мусульманскую и азиатские цивилизации. Он был тесно связан с политическими страстями и пропагандой.
Оттон Фрейзингенский видел завершение мировой истории в Священной Римской империи германской нации. Высшая власть перешла «от римлян к грекам (византийцам), от греков к франкам, от франков к лангобардам, от лангобардов к германцам („немцам“).
Кретьен де Труа перемещал ее во Францию в знаменитых стихах «Клижеса»:
Нам книги древние порукой:
Обязаны своей наукой
Мы Греции, сомненья нет,
Откуда воссиял нам свет.
Велит признать нам справедливость
За ней ученость и учтивость,
Которые воспринял Рим
И был весьма привержен к ним.
В своем благом соединенье
Они нашли распространенье
У нас во Франции теперь.
Когда бы только без потерь
Им сохраниться здесь навеки!
(Пер. В. Б. Микушевича)
Ричард Бьюри в XIV в. считал венцом истории Англию. «Дивная Минерва обходит разные нации и перемещается с одного конца Вселенной на другой, чтобы отдавать себя всем народам. Мы видим, что она уже побывала у индийцев, вавилонян, египтян, греков, арабов и латинян. Она покинула Афины, оставила Рим, забыла Париж и только что счастливо достигла Великобритании, знаменитейшего из островов, микрокосма Вселенной».
Проникнутая страстным национальным чувством концепция перехода власти внушала прежде всего средневековым историкам и теологам веру в подъем Запада. Движение истории постоянно перемещает центр тяжести мира с востока на запад, и норманн Ордерик Виталий использует в XII в. этот аргумент, говоря о превосходстве своих соотечественников-норманнов. Оттон Фрейзингенский писал: «Человеческое могущество и мудрость родились на Востоке и начали завершаться на Западе». Ему вторил Гуго из Сен-Виктора: «Божественное провидение распорядилось таким образом, что всеобщее правление (миром), которое вначале находилось на Востоке, по мере того как время подходит к своему концу, перемещается на Запад, чтобы уведомить нас о том, что близится конец света, ибо ход событий уже достиг края Вселенной».
Эта упрощенная и упрощающая концепция имела, однако, ту заслугу, что она связывала историю и географию («Нужно разом принимать во внимание место и время, где и когда произошли события», — говорил тот же Гуго из Сен-Виктора) и подчеркивала единство цивилизации.
На более низком уровне национальной истории ученые средних веков и их аудитория задерживались на тех событиях, которые свидетельствовали, что их страна развивается в общеисторическом русле и причастна самым тесным образом к истории спасения. Для Франции при этом на первый план выступали три момента: крещение Хлодвига, царствование Карла Великого и первые крестовые походы, рассматриваемые как деяние французов (gesta Dei per francos). В XIII в. при Людовике IX эта направляемая провидением французская история получила продолжение, но уже в изменившемся ментальном контексте. Если до этого историки опускали незначительные эпизоды, чтобы связать воедино моменты, имеющие смысловое значение, то теперь в «Королевских хрониках Сен-Дени» святой король вписывался в новую канну непрерывной истории.
Однако даже эта христианизированная «прозападная» история не порождала оптимизма. Об этом ясно говорит приведенная выше фраза Гуго из Сен-Виктора; она является итогом, симптомом неотвратимого приближения конца истории.
Действительно, средневековые христианские мыслители пытались изо всех сил остановить историю, завершить ее. Феодальное общество с его двумя господствующими классами, рыцарством и духовенством (chevalerie -et clergie у Кретьена де Труа), рассматривалось как конец истории — точно так же, как Гизо и XIX в. увидел в триумфе буржуазии венец исторической эволюции.
Схоласты старались обосновать и укрепить представление об остановке истории, исходя из того, что историчность обманчива и опасна, а подлинную ценность имеет одна лишь вневременная вечность. XII век был заполнен борьбой между сторонниками учения о постепенно открываемой истине («Истина — дочь времени», — сказал якобы Бернар Шартрский) и приверженцами теории неизменной истины. Гуго из Сен-Виктора горячо выступал против Абеляра, который даже у ветхозаветных праведников искал ясного знания о воплощении Христа. Он утверждал, что история представляет собой развертывание Божественного провидения во времени. Однако Фома Аквинский скажет спустя столетие, что «бесполезно заниматься историей учений: важна лишь та частица истины, которая в них может содержаться. Этот отчасти полемический аргумент позволял ему заимствовать у Аристотеля, не вступая в дискуссию о языческом окружении его собственного учения. Но перед нами здесь также и глубинная тенденция поиска неизменной истины, стремление уйти от зыбкого исторического времени.